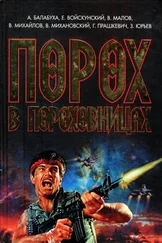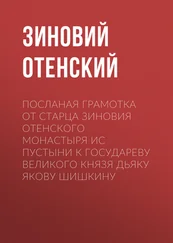— Коли не хаживал в Черниговский монастырь, — возобновил разговор толстоголосый, — так бывал, значит, в Печорах.
— И в Печорах не бывал. — Печоры…
Кузёмке почудилась какая-то тень. Он быстро обернулся и увидел бледное плоское лицо толстоголосого, который занес закомлистую орясину над Кузёмкиной головой.
— Чего ты?.. Чего? — зашептал Кузёмка, вытаращив глаза и попятившись назад.
— Ни-че-го-о… — прохрипел толстоголосый.
Он подался немного к Кузёмке и ёкнул его орясиной по голове. Кузёмкина голова хрустнула, как разбитый горшок, и кровь сразу залила Кузёмке очи. Он уронил клюку, полученную только что от толстоголосого взамен орясины своей, и, как ветряк крыльями, замахал руками. Потом ткнулся носом в грязь, которая заалела от Кузёмкиной крови.
Толстоголосый дышал тяжело. Он оглянулся и, бросившись к Кузёмке, сорвал с него тулуп. Путаясь в рукавах, он стал натягивать его на свой латаный тегиляй [157] Стеганый кафтан.
, из дыр которого в разных местах торчала рыжая пакля. Потом схватил Кузёмку за ногу, обутую в измочаленный лапоть, и потащил в сторону. Он сбросил Кузёмку в орешник, как куль с мякиною в сусек, подобрал валявшуюся в грязи Кузёмкину коробейку и быстро пошел по дороге, поторапливаясь, оступаясь, застегивая тулуп на ходу.
Мукосеи, вкинутые на ночь в земский погреб, были вынуты оттуда утром и приведены на съезжую. Оба мужика тщетно старались припомнить, что произошло с ними с вечера, как попали они из кабака в темницу, где всю ночь скакали блохи и кричали сверчки. У Милюты и тщедушного его товарища, которого звали Нестерком, за ночь совсем затекли связанные руки и доселе жестоко щемили бороды, надерганные накануне накинувшимся на них стрельцом. Оба супостата [158] Супостат — недруг, враг.
стояли на улице, охали и переминались с ноги на ногу, пока их не ввели в съезжую избу и не поставили там к допросу.
В казенке, где воевода и дьяк вершили государево дело, было жарко и дымно, тусклый свет пробивался в слюдяные окошки, багровые пятна падали на пол от большой лампады перед образом в углу. В стороне, на лавке под самым окошком, сидел подьячий с медною чернильницей на шее, с пуком гусиных перьев за пазухой. Воевода и дьяк кричали на Нестерка и Милюту, называли их ворами и изменниками, повинными смертной казни, а подьячий — семя крапивное — исписывал у себя на коленке столбец за столбцом, складывая их в стоявший подле цветисто расписанный богомазом короб. Нестерку с Милютой были страшны и воевода, стучавший посохом об пол, и дьяк, пронзавший их своими колкими глазами, и покашливавший в рукав зипуна подьячий строчила. «Не ставь себе двора близ княжого двора, — вспомнил старинное поучение Милюта, — ибо тиуны у князя — как огонь, и урядники у него — как искры». А Нестерко глянул с укоризной Милюте в его драную бороду, все еще сивую от муки, и вздохнул: «Вот те и цари!.. Цари и царицы, князья и бояре, все пестрые власти, приказные люди!..»
Мукосеев продержали в съезжей избе до обеда. Были им очные ставки и со стрельцом, и с кабатчиком, и даже с вытащенным из бани Семеном, которому за несколько дней до того Милюта надавал по щекам, выбив его затем из мукосейного амбара. А теперь они были в одном мешке — и грузный Милюта, и хилый Нестерко, и Семен, стоявший с ними рядом, красный от банного пара, в бабьем платке, обмотанном вокруг разбитых Милютою скул, с мокрым березовым веником под мышкой.
Милюту, Нестерка и Семена водили в этот день в застенок дважды. Здесь мукосеям за непригожие речи и затейное воровство дважды выбивали кнутьями спины, потом их повели из съезжей по насыпи вверх, отперли тын и всех троих кинули в верхнюю тюрьму.
В верхней тюрьме было то же, что и прошлою ночью в земском погребе: так же набросились на них блохи, и так же из последних сил надрывались сверчки. В тюрьме, кроме мукосеев, был только один сиделец, ветхий человек с урезанным языком, должно быть совсем уже сошедший с ума. Сидел он здесь в оковах с незапамятной поры и находился в вечном заточении, посаженный по смерть.
Мукосеи и не отдышались-то за ночь как следует после вчерашнего «гостевания» у воеводы, а всех их уже на рассвете вынули из тюрьмы и, обмотав цепями, посадили на телеги. И сел Милюта на один воз с Семеном, а Нестерко устроился на другом, рядом со сторожем, в руках у которого была длинная заржавленная секира, а в шапке — расспросные речи, записанные воеводским подьячим. В Москве прочтут, разберут, и будет им всем суд и указ.
Читать дальше
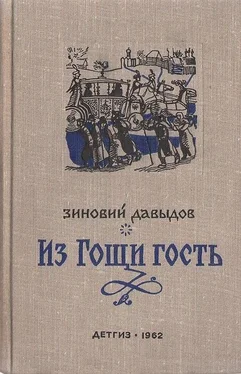
![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)