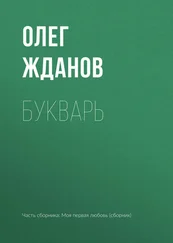Но не только к людям в храме и с жалобой к Богу на небесах обращался епископ Георгий. Тайным, хотя и недостижимым адресатом его была она, императрица Екатерина Алексеевна, взошедшая на престол 28 июня 1762 года. Не услышит она его слова, но, может быть, неким чудным образом почувствует то, что чувствует он и вся православная паства Речи Посполитой.
«Тут вопли и рыдания, каковы, может быть, токмо во время избиения младенцев от Ирода слышаны были … Молчу о пастырях бедных, священстве нашем. Сколь многие из них изгнаны из домов; сколь многие в тюрьмах, в ямах глубоких, во псарнях вместе со псами заперты были, гладом и жаждою моримы, сеном кормлены; сколько многие биты и изувечены, а некоторые и до смерти убиты…»
Стоял апрель 1767 года.
Воссоединение с Православной церковью всех отторженных от нее епископ Георгий считал своей главной жизненной задачей. Иначе зачем он ходит по земле?
Обидел девку. Ривка или Луиза?
Николай Богданович Энгельгард передал с Фонбергом обер-коменданту Родионову личное письмо, в котором настойчиво просил раз в десять дней сообщать по почте, как идут дела приготовления. Он и получил через десять дней сообщение, что инженер прибыл, работы начались, строится мост, вкопаны штандары под фундамент и размечены стены будущего дворца, ремонтируются дороги. Еще обер-комендант сообщал, что известие о приезде императрицы произвело на жителей хорошее нравственное впечатление, но после этого Родионов замолчал. Прошло и еще десять дней, и три недели, и месяц, — город молчал. Что, может быть, заболел обер-комендант? Как-то он жаловался на головные боли, но есть в городе городничий, капитан-исправник, есть предводитель дворянства. В чем дело? Конечно, позже придется ехать самому с инспекцией, хотя и вполне доверял Родионову, но пока рано. Каждый день ждал письма, но прошло и еще две недели, а никакого сообщения не поступало. Он уже начал сердиться, хотя и понимал, что, наверно, есть причина у обер-коменданта молчать, что еще хуже. Николай Богданович уже собрался было ехать в Мстиславль, как наконец получил подробное письмо. Причина молчания была проста: когда мосты были построены, — каждый с двумя ледорезами, а стены дворца и трапезной вполовину возведены, стало ясно, что деньги, отпущенные казной, заканчиваются. Между тем, предстояло еще накрыть дворец и трапезную гонтом, купить и доставить из Смоленска мебель, чтоб не стыдно было перед императрицей, кроме того, староста городской купеческой гильдии обещал привезти для императрицы обеденный сервиз из Москвы. А еще нужно было иметь про запас двести-триста рублей, чтобы заплатить шляхтичам и купцам за лошадей, требуемых в ордере. В Петербурге предполагают, что лошади будут бесплатные, что по одной лошади от тридцати живых душ приведут купцы и мещане и по одной каждые пятьсот крестьян. Да, приведут, но какие то будут одры!
Конечно, лошади пойдут только до следующей станции, то есть до Новгород-Северска, а затем вернутся, но не приведи Господи не выполнить это распоряжение. Пришлось созывать дворянское собрание, заседателей Совестного суда, торговых депутатов, церковных и костельных старост, старшин богатых — стеклодувов и горшечников — купеческих гильдий, членов мещанской управы — требовать в непредвиденных расходах участия. Собрали по уезду почти полтысячи, но и этого, по всему видно, не хватит.
Тут еще дело и в сроках: как сообщали друзья и приятели из Петербурга, подготовка шла полным ходом, особенно в южных краях империи, в Таврии. Пятнадцать миллионов отпустила казна на путешествие, почему же Мстиславлю только три тысячи?
* * *
Однажды вечером Зося, хозяйка Фонберга, долго молчала за ужином, словно раздумывала о чем-то, и вдруг сказала:
— А я тебе, Юрка, нашла другую квартиру. Не надо тебе жить у меня. Хорошая там хозяйка, лучше, чем я. Старушка. Чисто у нее, хорошо. А то уже говорят люди. Ты еще молодой, и я не старая. Плохо мне с тобой. И тебе плохо, правда? И нельзя ничего такого, правда? Лучше тебе уйти, да?
— Как скажешь, Зося. Мне у тебя было хорошо.
— Нет, плохо. Я знаю. — Но тут же и передумала: — Ладно, поживи еще. Платишь хорошо, а мне деньги нужны.
По вечерам, словно взяв за правило, он стал гулять по длинной еврейской слободе, поглядывая на окна дома Моше Гурвича. Иногда ему казалось, что увидел отодвинувшуюся занавеску в окне. Настойчивость его была вознаграждена: однажды, звякнув дужкой ведра, вышла из дому Ривка, направилась к колодцу.
Читать дальше