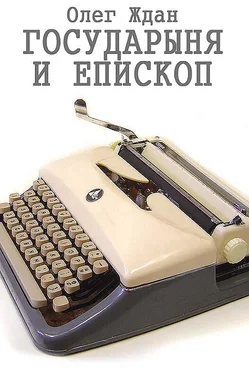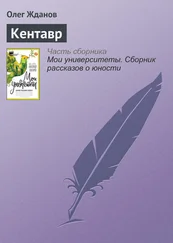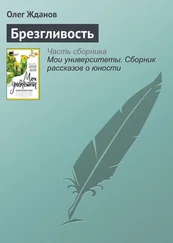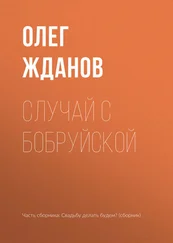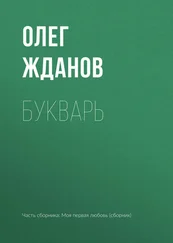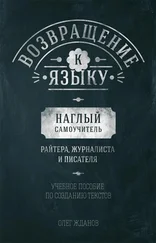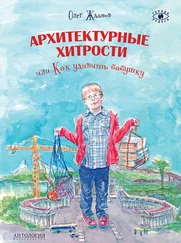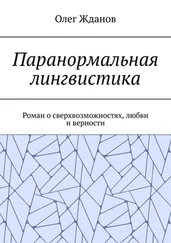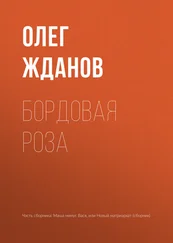Женщина она была молодая, аккуратная, плату попросила умеренную, готовила хорошо — Юрген был полностью удовлетворен. Во время ужина она ставила и себе тарелочку, садилась напротив, ела подчеркнуто аккуратно, поминутно утирая яркие крупные губы платочком, и порой хитро интересовалась: «Чего у тебя слова какие-то кривые? Говоришь понятно, а слова кривые». — «Немец я». Зося улыбалась. «А что молчишь? Нравится тебе моя еда или нет?» — «Нравится». — «Ну так похвали. Мой хозяин помер, некому похвалить. Женщина без похвалы жить не может». — «Очень вкусно». Смеялась: «Мне нельзя держать тебя на постое, а я держу. Я еще женщина молодая, могу и замуж выйти, а то, что ты у меня живешь, — нехорошо. Что могут подумать. А ты не боишься, что подумают?» — «Нет, не боюсь». — «Конечно, чего тебе бояться, ты мужчина.»
Умолкала, грустила. Дом был большой и пустой, ни мебели, ни одежды, все лишь самое простое и грубое: лавка у стены, табуретки, два кое-как сбитых деревянных топчана. Самое ценное — огромный резной рундук, на котором можно и сидеть, и спать. В устьице, на припечке большой «русской» печи, два чугунка, большой — ведерный, чтобы согреть воды, и малый — сварить щи на двух-трех человек. Не было и живности, кроме поросенка да кошки. Жила Зося уж очень скромно, питаясь тем, что приносил небольшой, около десяти соток, огород. Позже Зося объяснила причину бедности: муж ее, купец третьей гильдии, был православный, а староста гильдии — униат, всех мстиславских купцов он перетащил в унию, а ее Семен в унию не захотел. Начал староста прижимать его: если хороший заказ — не давал Семену, если тяжелый — посылал. А тут еще Семен пристрастился к крепкому вину и стал разгильдяем, сперва из купцов попал в возчики, затем в лакеи, а там и умер от перепоя и тоски. А ведь когда женились, пятьсот рублей внесли в казну на приписку к гильдии, было у них четыре коня, свинья с поросятами, пять овец, две козы с козлом, держали конюха и бабу-работницу — все пришлось продать, чтобы выжить. Она считала себя виноватой перед мужем: не смогла родить детей, потому и попивать начал. Когда его разгильдяили, она не ругалась и даже не плакала, а пошла к старосте Рогу и плюнула ему в лицо. А когда умер Семен, хотела поджечь хату старосты, уже и сухую паклю приготовила, да внуков пожалела его. Не может она слышать, когда дети плачут.
«Скучно мне одной, немчик, — произнесла однажды. — Женщине трудней жить. Когда хороший хозяин, тогда легче, а когда нет — трудней. У тебя невеста в Могилеве есть?» — «Есть». — «Как ее зовут?» — «Луиза». — «Ага, Лизка, значит. Ну и что она? Хорошая?» — «Хорошая». — «Вот видишь. А ты у меня живешь.» — «Так мне уйти?» — «Нет, поживи еще. Все равно никто не сватается».
Все более и более внимательно вглядывалась она в его лицо, старательно ухаживала за обедом и ужином. «Я тебя по-нашему буду звать, Юркой, ладно?» — спросила однажды. «Ладно». — «А ты меня зови Зоськой», — смеялась каким-то собственным мыслям или догадкам. «А хочешь, я тебе спою?» — и тут же начала вполголоса некую длинную печальную песню. «Хорошо пою?.. Могу и веселые песни, но если веселые — надо плясать, а я не могу, толстая. Сплю, наверно, много, потому. Люблю спать. — Опять смеялась с каким-то непонятным значением. — А немцы толстых не любят?..» — «Почему, всяких любят». Могла посреди разговора подняться и, не прощаясь, отправиться спать. А могла среди ночи разбудить странным вопросом: «А песни тебе наши нравятся? У немцев — какие?» — «Я здесь родился, мало их знаю». — «Жалко. Наши песни для вас чужие. А вообще, какие вы, немцы? Как евреи или другие?» — «Другие». — «А веры вы какой?» — «Как кто. Наша семья — лютеране». — «Хорошая вера?» — «Хорошая». Умолкала, о чем-то думая, размышляя. «Нет, этого мне не понять». А порой ставила еду на стол и надолго уходила из дому. Сквозь сон он слышал, как она возвращалась, разбирала постель, тихо вздыхала. Деревянный топчан долго поскрипывал под ее крупным телом. «Тебе там, на топчане, не мулко? — однажды среди ночи спросила она. — Узкий топчан, только сидеть. Хозяин мой сбил на случай запоя, чтоб не мешать мне. Хороший был человек. — И вдруг сердито добавила: — А коли мулко, полезай на печь».
Однако не только деньги были проблемой для православной жизни в Могилевской губернии и вообще в Великом Литовском княжестве. Со времен Унии, которая лишь поначалу изображала примирение православия и католичества, уже почти двести лет не было покоя на этой земле.
Читать дальше