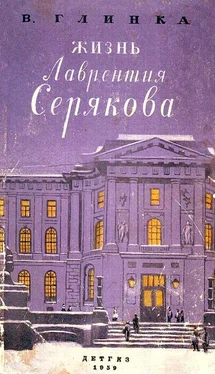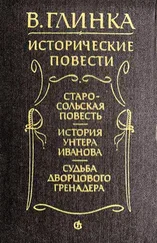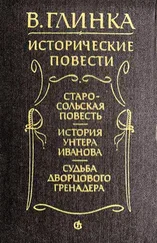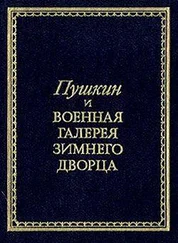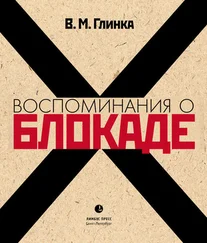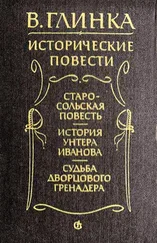Особенно подружился он с семидесятилетним Василием Васильевичем, убиравшим зал Рембрандта. Отставной гвардеец, тяжело израненный под Парижем, он за сорок лет службы в Эрмитаже стал любителем искусства, авторитетом для него был один Бруни. Похвалив какую-нибудь картину, Василий Васильевич добавлял: «Вот и Федор Антонович каким-то господам тоже говорили, что она в конпозиции востра…» Отметив, что на другой пожелтел лак, сообщал: «Докладал я намедни Федору Антонычу приватно, и они реставратным приказали, чтоб ей занялись».
Когда Лаврентий рассказал, каким рассеянным считают Бруни в академии, старик заметил:
— Они и здесь бывают иной день точно не в себе: им докладаешь, а они мимо променадом идут. Да и понятно: думают-то не про перину аль блеманже, а может, картине какой сумнительной автора определяют… Но небось все нужное в комплекте помнят — нас всех никогда не спутают именами и кто чего стоит, верную апробацию дают — кто грамотный, кто аккуратный и кто вкус чувствует к изячному.
Серяков скоро заметил, что Василий Васильевич соединял все три перечисленных достоинства с любовью к иностранным словам. Любовь эта зародилась, должно быть, еще в заграничном походе, в Париже, где он долго лежал в госпитале, и окрепла от многолетнего слушания разговоров господ — посетителей Эрмитажа.
Исполнительный Василий Васильевич разговаривал с Лаврентием лишь по нескольку минут, а затем удалялся, прихрамывая на подагрических ногах, обметать перовкой картины или просто пройтись по залу, неизменно приговаривая:
— Рисуй, рисуй, сынок, не подгадь солдатской аттестации!..
И без этого напутствия Серяков работал как никогда еще, старательно и неторопливо. Ведь только если рисунок будет очень хорош, совет академии позволит ему гравировать программу. А от особых графических качеств этого рисунка, по которому предстоит работать уже вне Эрмитажа, зависели достоинства будущей гравюры, выразительность и сходство с оригиналом. Лаврентий отлично представлял всю сложность своей задачи. В отличие от недавней работы над «Иеронимом» или копирования другой гравюры на металле, ему предстояло самому найти художественные средства перевода мазков кисти в линии своих штихелей. Прорисовав до последней детали тончайший контур, он занялся разработкой штрихов, передачей всех оттенков света и тени, выраженных в оригинале цветом. Как это было трудно и непривычно!
Через каждые два часа Серяков делал перерыв минут на десять, вставал, разминал ноги, разгибал спину, ел, если никого не случалось в зале, кусок пирога или белого хлеба, сунутый ему в карман Марфой Емельяновной. А главное, прохаживался по соседним залам. Шел то к картинам русских мастеров, то к размещенным по другую сторону зала Рембрандта голландской и фламандской школам. Особенно поглощали его внимание жизнерадостные полотна Рубенса или маленькие картинки Терборха и де Хоха, мастерски передававшие сцены домашней жизни голландских горожан. С большим трудом отрывался он от этих картин и возвращался к своему рисунку.
А вечерами, дома, Серяков уже при свече склонялся над доской и штихелем воспроизводил части своей работы, ища воплощения того, что прорисовал днем.
Почти каждое утро к Лаврентию подходил Бруни. Залом Рембрандта он заканчивал ежедневный обход картинной галереи. Еще издали слышались неспешные шаги, негромкие приказания лакеям, убиравшим залы, или сопровождавшему его реставратору. Остановившись за спиной Серякова и слегка коснувшись рукой его плеча, чтоб не вставал, не прерывал работы, Федор Антонович смотрел на рисунок, постепенно появлявшийся на бумаге. Иногда делал замечания, хвалил, но нередко, постояв молча, новым легким нажимом руки на плечо как бы прощался с Серяковым и шел дальше. Когда же Лаврентий все-таки вставал — не мог же он сидя разговаривать с профессором, — Федор Антонович спрашивал, что видел в Эрмитаже, и порой сам вел к какой-нибудь картине. Однажды, стоя рядом с Серяковым перед «Блудным сыном», Бруни рассказал о жизни Рембрандта, о его славе и богатстве, пока шел обычной дорогой, подчинялся вкусам заказчиков, и о нищете, об одиночестве, когда стал писать только то, к чему влекло сердце.
— Конечно, каждый мастер выбирает сюжеты произведений сообразно своему вкусу и характеру. Но время, в которое живешь, то, что видел и пережил, тоже влияют… Вот моему поколению не очень-то повезло, мы начинали в суровые годы… Путь Рембрандта под силу только подвижнику…
Читать дальше