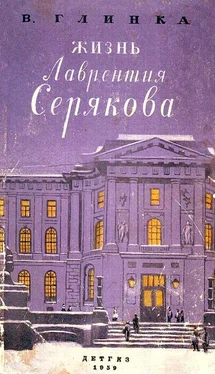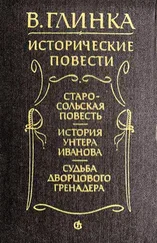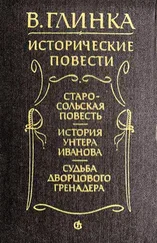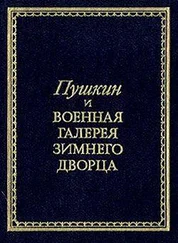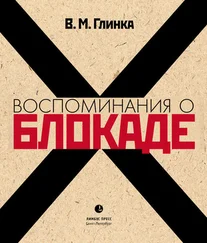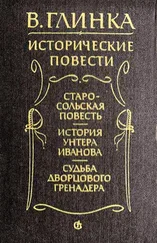Что было сказать Серякову? Так и уйти ни с чем? «И зачем не взял с собой отпечаток своего «Иеронима»? — думал он. — Увидел бы хоть старания мои, попытки… Но кто же знал, что так упрется…»
— Василий Иванович, — заговорил он опять, — вы только позвольте попытаться… Ведь совет будет утверждать какой-нибудь знаменитый оригинал, с которого мне резать совершенно так же, как граверам по металлу. — А уж я так постараюсь… Может, и выйдет что достойное…
— Экой ты упрямец, Серяков!.. Ну, подавай в совет, пусть они и решают! — сердито сказал Григорович и наклонился над лежащими на столе бумагами.
Назавтра, когда Лаврентий принес прошение, конференц-секретарь предупредил:
— А знаешь ли, мы должны перед программой, какая бы она ни была, запросить военное начальство, согласно ли, чтоб ты ее делал. Ведь со званием художника связано право на вечную вольность, а ты, как-никак, по бумагам-то нижний чин.
«Вот оно! Конец! — подумал Серяков. — Точь-в-точь как крепостной… Уж теперь-то начальство, когда ему все растолкуют в бумаге из академии, наверное не разрешит мне брать программу… Но что же делать?.. Отложить?.. Так всегда то же будет… Нет, все равно, была не была…»
И он сказал:
— Что ж, Василий Иванович, раз такой порядок… Много позже Лаврентий узнал, что ворчливый конференц-секретарь написал весьма обдуманную бумагу, и не барону Корфу, а прямо военному министру, на что имел формальное право, раз Серяков был определен в академию по докладу военного министра. И закончил запрос весьма лестным отзывом об успехах Серякова и тем, что совет академии уверен в его будущности как незаурядного художника.
Через две недели, проведенные Лаврентием в непрерывной тревоге, пришел ответ: со стороны военного министерства нет препятствия к предоставлению программы кондуктору-топографу Серякову. Но в случае присуждения ему звания свободного художника «указанное звание надлежит заменить чином коллежского регистратора», а самого Серякова, как «принадлежащего к военному ведомству, определить на службу в оном».
«Принадлежащего»! Вот оно, настоящее выражение! И с успешным окончанием академии не закончится зависимость Серякова от военного ведомства. Оно и впредь не хотело выпускать из цепких лап свою собственность, бывшего кантониста, какими бы способностями он ни отличался!
«Да ладно, посмотрим, — думал Лаврентий. — Произведете в чиновники, тут-то я и свободен!..»
Еще через несколько дней совет академии рассмотрел прошение Серякова и предписал ему для выбора картины явиться к заведующему галереей Эрмитажа Федору Антоновичу Бруни.
Лаврентий давно не видел Бруни. В последние годы профессор мало бывал в академии, поглощенный хлопотами по устройству картинной галереи в новом здании. Серяков слышал от товарищей, что почти каждый год Федор Антонович ездил за границу осматривать и покупать картины и скульптуры для Эрмитажа. Много художественных ценностей, принадлежавших разорившимся или напуганным событиями 1848 года аристократам, перевез Бруни в Петербург из Парижа, Рима, Венеции.
Идучи в Эрмитаж, Лаврентий сомневался, вспомнит ли его Федор Антонович. Когда-то, в первый год пребывания в академии, он так одобрил Серякова… Но профессор славился забывчивостью и рассеянностью. Вот забыл, видно, что когда-то обещал пустить в Эрмитаж посмотреть картины, когда не будет посетителей. Но это пустяки, забывает вещи поважнее. И на память Серякову приходили рассказы о том, насколько Бруни «не от мира сего».
Рассказывали, что однажды, едучи в Царское Село и оказавшись в купе вдвоем с незнакомой дамой, Федор Антонович, восхищенный красотой ее бархатной накидки, принялся молча драпировать складки так и эдак на коленях соседки. Полагая, что едет с сумасшедшим, дама ни жива ни мертва едва дождалась остановки поезда. И только тут, подняв глаза на ее лицо и сообразив, что делал, Бруни принялся извиняться.
Возвращаясь как-то летом на дачу, профессор купил для младшего сына игрушечную лошадку — раскрашенную головку на длинной палке. Приехав на Аптекарский остров и отворив калитку, Бруни сел на палочку и лихо поскакал по дорожке к балкону, где встретил его дружный хохот незнакомых людей. По ошибке он «въехал» в сад чужой, соседней дачи.
На званых вечерах Федор Антонович по рассеянности брал в передней из рук выездного лакея его цилиндр с галунной кокардой и входил с ним в гостиную. Он долго носил в кармане полученное жалованье, удивляясь и негодуя вместе с женой, почему его до сих пор не выдают. Забывал надеть или путал ордена, прикрепляя их не там, где полагалось, невпопад повязывал белые или черные галстуки, строго предписанные на свадьбах, похоронах или официальных приемах.
Читать дальше