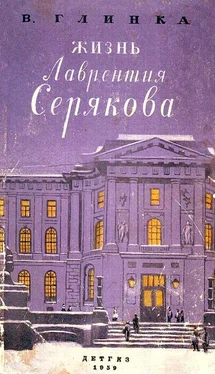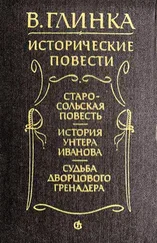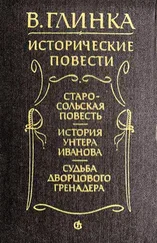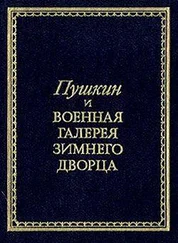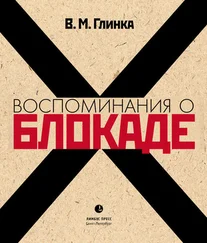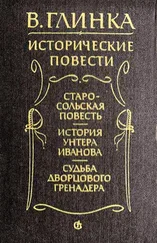От пришедшего вскоре на свой пост Василия Васильевича Лаврентий узнал, что, кроме неизбежного вреда картинам от копоти тысяч свечей, горевших в залах, кроме многих пятен на паркете от пролитых соусов, накануне получили повреждения несколько картин. Обходя утром залы, Бруни обнаружил царапины, сделанные на холстах, должно быть, краем костяного дамского веера, камнем перстня или еще чем-то, а на одном полотне оказался порядочный прорыв.
— Может, самому царю надо бы доложить? — спросил возмущенный Серяков.
— Федор-то Антоныч доложить не побоится, да разве тем что поправишь? — отвечал сокрушенно Василий Васильевич. — Прошлого года, как открытие галереи пятого февраля было, он так раскипятился, ровно Бердова машина… Кто-то из господ свечой подпалил Рубенсову «Диану с Адонисом», а на Веласкесовом «Завтраке» угол продавили… Прислонились, может, к стене, да после ужина и повело их, должно, затылком назад… Так Федор-то Антоныч вот как отчетисто его величеству все высчитали: так и так, посмотреть сами извольте на этакое безобразие! Подвели их к картинам и наотмашь ладошкой в сердцах показали. Мы уж все думали, не рассердились бы его величество, что ему вроде нотацию за гостей читают.
— Ну, а государь что сказал?
— Сказали строго: «Полно, Бруни, не горячись. Отдай что нужно реставраторам или другим из кладовой замени, а мне пустяками не докучай…»
Через несколько дней, при утреннем обходе, Федор Антонович рассмотрел работу Лаврентия и сказал, что рисунок совершенно готов. Прошла еще неделя, и совет академии тоже утвердил его. Серяков засел за работу.
Гравюру следовало сделать к сентябрю, когда устраивалась ежегодная выставка работ окончивших академию и выпускной акт. Сам Бруни сказал Серякову, что времени осталось в обрез.
Только под вечер Серяков заставлял себя отрываться от доски, пойти погулять на час или два. Именно заставлял, потому что боялся усталой рукой, усталыми глазами испортить весь труд. Но и гуляя, он почти неотступно думал о своей гравюре, соображал, что может сделать завтра, и, возвращаясь домой, первым делом смотрел на доску, прикидывая, поспеет ли.
Иногда одолевало сомнение: не напрасна ли его попытка? Ведь до сих пор никому никогда не давали еще звания художника за гравюру на дереве. «Пустая трата времени. У тебя нет средств сделать что-нибудь истинно художественное», — вспоминал он раздраженный голос Григоровича. Может, и верно, что бы он ни сделал, совет не найдет этот труд равным гравюре на металле? Скажут: то, мол, искусство, а это — ремесло. Но отступать уже поздно. Нужно довести до конца…
Целые дни сидел Лаврентий в своей комнате, то целиком поглощенный движением штихеля, то слыша окружающие привычные звуки. Вот за стеной в кухне матушка осторожно, чтобы не помешать ему, переставляет ухватом сковороды и горшки. Дальше, в их комнате, глухо щелкает на счетах Антонов. Он весной вышел в отставку, но работает не меньше пасынка, проверяя чьи-то конторские книги. Во дворе визжат и играют дети, разносчик выпевает: «Рыбы, рыбы свежей!..» Вот загудел паровик на Московской дороге…
Вечерами, когда Серяков возвращался с прогулки, после чая Архип Антонович читал им с матушкой газету. В Вене шла конференция дипломатов, там пытались отклонить назревавшую войну, но с Дуная все больше пахло порохом, и русские корпуса, вступив в Молдавию и Валахию, стояли в полной боевой готовности.
Притулившись на диване, Лаврентий думал о своих товарищах топографах — их всех после производства отправили в южную армию. Как они там? Работают на съемке, колесят верхом по степи, чертят и спят в палатках, может иногда вспоминают его… А он вот прилег здесь, закрыл усталые глаза, в которых и сейчас стоит доска с головой бородатого старика, слушает чуть глуховатый голос читающего Антонова. А если открыть их, то увидит матушку, склонившуюся над своим шитьем или отбирающую смородину для варенья… Здесь все так мирно. А там, на другом конце России, вот-вот начнется война… У каждого своя судьба… «Вот провалюсь со своей гравюрой и, может, тоже поеду по железной дороге до Москвы и дальше на лошадях в армию; мимо замелькают верстовые столбы, прохожие, обозы, как когда-то на большой дороге, по которой шел с этапом… А завтра начну гравировать волосы за ухом, усилю морщинки у глаза…»
Так прошло лето. В конце августа Серяков сделал пробный оттиск со своей доски, еще кое-что подправил. Оттиснул снова и остался доволен. Уж никак не картинка для книжки, не виньетка, как ни толкуй. Но что скажут в совете? Что скажет прежде всех Григорович?
Читать дальше