— Признайся, что ты распространял грязные слухи об их высочестве царевиче Ибрагиме Султане! Не говорил ли ты во всеуслышание, что царевич распутник и удовлетворяет свою страсть с безбородными юнцами?
Таджи отрицал все. Тогда казий назвал кое-кого из дружков Таджи и пригрозил, что вызовет их в суд в качестве свидетелей и устроит очную ставку. Таджи испугался, что и впрямь сюда могут привести его друзей, и сказал, что, мол, такие слова вырвались у него нечаянно и он раскаивается в содеянном. Судейский записал его признание и заставил поклясться на коране, что он ни под каким видом не отречется от своего показания. А затем нукеры увели его и заперли в сырое подземелье. Прошло несколько дней. И вдруг Таджи привели в гарем царевича, усадили на стул на застекленной веранде и крепко прикрутили к стулу руки и ноги. Заткнули ему рот платком и приказали смотреть во внутренние покои, добавив, что, когда он хорошенько насмотрится па то, что там будет происходить, ему дадут свободу. А через несколько минут в покои вошла старуха, ведя за руку жену Таджи, одетую в роскошное шелковое платье. Старуха усадила жену Таджи на ложе и удалилась. А еще через минуту, в меховой шапке с пером, в накинутом на плечи богато расшитом золотом халате, вошел царевич Ибрагим Султан. Проглотив залпом пиалу вина, он схватил жену Таджи и грубо овладел ею. Таджи глухо застонал, он старался порвать впившиеся ему в тело путы, но не мог ни шелохнуться, ни крикнуть. Свершив злодеяние, царевич подошел к Таджи, бессильно уронившему голову на грудь, и, презрительно щурясь, отчеканил:
— С сегодняшнего дня и ты и твоя жена будете моими рабами.
В тот же вечер Таджи жестоко избили и, дав ему снотворного зелья, охолостили. Несколько дней он пролежал в беспамятстве, а когда очнулся, ему приказали остаться в гареме царевича евнухом. Прошло несколько месяцев, и пожелтело его красивое румяное лицо, вылезли усы и борода. И за этот же срок царевич на глазах Таджи трижды опоганил его жену, и несчастная, превратившись из свободной женщины в безмолвную рабыню, лишила себя жизни, бросилась с крыши дворца. Ослепленный горем, Таджи не находил себе места и однажды, обманув бдительность стражей, убежал из гарема. И вот пый за одно неосторожно вырвавшееся слово, мыкается по свету несчастный Таджи, не смея вернуться в родные края. И думается ему, наверное: «Кем я был и кем стал». И живёт он в великом гневе, ненавидя все живое, отлученный от людей, и единственная отрада для его души — опиум.
Но тут Таджи обвел хмурым взглядом зодчего и табиба и зашагал ко внутреннему двору, бормоча себе под нос:
— Хозяин велел напоить лошадей, а эти проклятые скоты не желают пить, так и норовят укусить друг друга. Одна мерзость кругом. Уйду отсюда. Хозяин еще ни гроша не заплатил мне за работу. Мерзавец! Нет на свете правды. Пусть все пойдет прахом. Все… Все…
Зодчий и Ходжа-табиб переглянулись. Им было до боли жалко этого бедолагу.
Глава XXXI
Глубокое течение
Читатель, очевидно, помнит Али-водоноса, который как-то в студеный зимний вечер постучал у ворот зодчего Наджмеддина Бухари, и как тот приветливо встретил незнакомца, обогрел его, накормил, приодел, а главное, обратился к нему с теплыми, от души идущими словами. В знойную летнюю пору Али-мешкобчи, что значит водонос, бродил по базарам и поил людей студеной водой, за которой по утрам отправлялся к источнику Чашмаи Хизр. Каждое утро заглядывал этот человек, которого обласкал и приободрил Наджмеддин Бухари, и на стройку медресе. Первую чашу ледяной воды он неизменно подносил зодчему, а потом поил всех, кого мучила жажда, и скромно удалялся. Судьба забросила этого человека в Герат, где не было у него ни знакомых, ни тех, кто мог бы ему помочь. Было ему под сорок, сложения он был плотного, хотя и сильно похудел за последние годы бедствий, с загорелым лицом и зычным голосом. А ведь он, сын мастера — уста, знал лучшие дни, жил в холе и тепле, но после смерти отца не смог оставаться в родном городе и очутился в неприводоносом. Не сразу удалось ему стать на ноги. Первое время он ходил в одежде, которую ему давал зодчий, нередко просил у него денег взаймы. Но как раз зодчий был тем единственным человеком в Герате, с которым ему было легко, напоминал ему старый устад и обликом и речью его отца. Нередко он даже прислуживал в доме зодчего, стараясь хоть как-то отблагодарить своего благодетеля — человека, широкой души, привечавшего бездомных и бесприютных. Одно время он даже работал на стройке медресе, но потом, женившись на одной вдове и поселившись в ее хибарке, снова вернулся к своему прежнему занятию, считая, что это дело прибыльнее. А ведь поил он людей, подносил уставшему холодную воду и не просил ничего, довольствовался тем, что ему давали. Рано поутру отправлялся он к источнику Чашмаи Хизр, наполнял студеной водой два больших бурдюка — один относил домой зодчему, а с другим плелся в свою хибару и здесь разливал воду в медные кувшины, с которыми и бродил по улицам Герата. В первое время своего пребывания в чужом городе он нередко разделял трапезу с учениками зодчего, с наслаждением смаковал пищу, приготовленную умелыми руками Масума-бека, и всякий раз не забывал поблагодарить гостеприимных хозяев:
Читать дальше
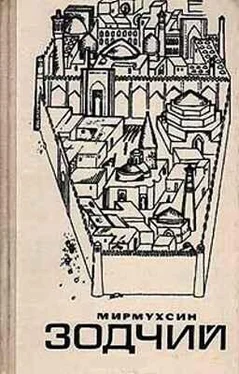




![Мирмухсин - Молнии в ночи [Авторский сборник]](/books/389126/mirmuhsin-molnii-v-nochi-avtorskij-sbornik-thumb.webp)

![Мирмухсин Мирсаидов - Молнии в ночи [Авторский сборник]](/books/392929/mirmuhsin-mirsaidov-molnii-v-nochi-avtorskij-sborn-thumb.webp)




