Александр Круглов - Отец
Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Круглов - Отец» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Отец
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Отец: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Отец»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Отец — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Отец», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
«Ох, как некстати, Евтихьюшка! Война-то, война». Заплакала, жмется к нему. А рядом пыхтит паровоз — умчать его от Николки, от Катеньки на эту на самую, проклятую. А его толкают, толкают в вагон.
Проснулся Матушкин сразу, лишь только Лосев коснулся его плеча.
— Ва-а-алят! — доложил в испуге помор.
— Где? — вскинулся Матушкин на перине.
— Тама… За холмами ревут. У себя.
— И давно?
— Только зарыкали, зараз и прибег.
— Свет, — приказал Матушкин поспокойнее. Лосев ринулся в угол. Споткнулся о кого-то впотьмах. На полу, на соломе со сна в куче тел матюкнулись. А Лосев нащупал вслепую проводок, накинул его на клемму аккумулятора. От направленного света автомобильной переноски и он, и взводный зажмурились, а Семен, спавший прямо под лампочкой, перевернулся, не просыпаясь, кверху спиной. Его заскорузлую от застарелого пота рубашку чуть не вспарывали острые кости лопаток. От перенесенного на ногах простудного жара губы Семена еще шелушились, растрескались руки от стужи, желтела нарывом натертая пятка.
Матушкин вспомнил, что будто видел, как Барабанер накануне прихрамывал, а вот не придал этому значения. А должен был бы придать, такие вещи нередко кончаются плохо. Да и просто было жалко Семена. Парень, конечно, все эти дни молча крепился, страдал, и Матушкин от бессилия что-нибудь сделать сейчас, отправить его в медсанбат испытал неприятное чувство досады.
«Ладно, — решил он, — вот закончится бой, сразу отправлю. Если, — подумал, — останется жив. Если и я доживу». Эта мысль, как он заметил, со вчерашнего утра мелькала у него в голове уже несколько раз. Это ему начинало не нравиться. Он снова вгляделся с опаской в набухшую пятку Семена. И вдруг вспомнил, как вчера при нем нахально пытался обидеть Семена Голоколосский. Хама одернули сами солдаты. И он, взводный, тоже одернул. А надо бы было как следует наказать.
«Ну ладно, посмей мне только еще, — запоздало пригрозил Голоколосскому Матушкин, — шею сверну. Ишь, чего надумал… Еще чего не хватало!»
Застегнув полушубок, ремень с пистолетом. Матушкин поднял сползшую с Семена шинель и накинул ему на плечи. И вдруг испытал знакомое, — и нежное, вместе с тем слегка надрывное — чувство. Так после потери младшего сына и жены прикрывал он нередко Николку. И горько стало: кто его прикрывает сейчас? Ни матери, ни отца. Катя уехала. Один Николка совсем. Мужиком совсем стал. Работяга. Вечно в тайге. А скоро вот так же, как его солдаты, как он сам, будет лежать вместе со всеми вповалку, и хорошо еще, если не просто в траншеях, в снегу, а под крышей, хотя бы такой продырявленной, как эта, и хотя бы у такого нехитрого костра, как их догоравший. Оглядел сострадательно всех. Нургалиев спал, как джигит — только свистни, и, будь конь у него, сразу бы в седло, — в шинели и сапогах, с трофейным немецким ножом на ремне, между колен «пэпэша». Укрывшись шинелью с головой, спал Чеверда. Выдавал его храп: вдох — с придушенным хрипом, а выдох — как из сиплой трубы. Так храпеть умел только он. В углу на соломе свернулся калачиком «мамин сынок». Хорошо спал Изюмов, спокойно. «Ну, молодец», — похвалил его мысленно Матушкин. А рядом разбросался Орешный: руки и ноги в стороны, вверх животом. Как убитый, лежит.
«Фу ты, черт, нехорошо», — суеверно передернулся Матушкин.
Прежде чем выйти, он взглянул на часы. Не было еще и шести. Не осознанная со сна, но уже было сдавившая его тревога отлегла: фашистские танки не отваживались больше ходить на наши позиции по ночам, как было сперва. До рассвета же еще далеко, и Матушкин решил не подымать пока взвод: «Подожду, пусть еще покуда поспят. Сперва послушаю сам». Вырвав из-под чьих-то ног большой клок соломы, бросил его на тлевшие угли. Обдав Матушкина жаром, почти к своду метнулся огонь. Сунул в него пару каких-то досок.
— Пошли, — шепнул он помору. — Гаси свет.
Лосев шустро присел, рванул проводок. После ровного света лампы полумрак по углам, казалось, вдруг заплясал от живого света костра.
Только Матушкин откинул палатку, ступил за порог, в лицо словно кто сыпанул пушисто-холодным. Матушкин не поверил сперва — стеной валил снег.
«Вот это да! Ну и снежок! Да он теперь все заметет. Все, все! Спрячет от немца всякий наш промах». Обрадовался, весело зачерпнул горстью белый студеный пух, кинул себе на лицо. Стал его растирать. Щеки, лоб, руки запылали, с сонных глаз словно смыло песок.
— Кто идет? — услышал Евтихий Маркович, когда вместе с Лосевым мимо запасного снарядного погребка, мимо первого орудия пробрался к своему «энпе» — крохотному, с телефоном окопчику между и чуть позади огневых. Окопчик наполовину был занесен снегом, и он, не унимаясь, продолжал сыпать. Сердце взводного опять окатило счастливой волной: «Вот бы так до самого боя. Да и во время него. Орудиям… Нам в снегопад куда сподручнее, выгодней, чем танкам. Не сразу заметишь нас». — Стой! — не дождавшись ответа, уже грозно потребовал часовой и передернул затвор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Отец»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Отец» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Отец» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.


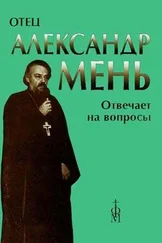

![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)


