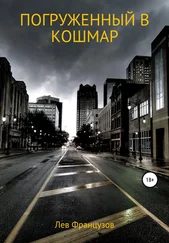— Ты, верно, крепко любил его, — сказал я. — Это и по стиху чувствуется.
— Как страшно он пил, — продолжал Мак-Карти, — правда, редко когда деньги водились. До беспамятства напивался. Упокой его душу, господи.
— Да ниспошли вечный покой, — произнес я, хотя мольба моя была, скорее, о сыне.
Снова наступило молчание, мы немного выпили, и Оуэн сказал:
— А ты помнишь тот стих, который мне все не давался? Про лунный свет, падающий на какое-то лезвие. Когда меня охватило то безумие в Киллале, думалось, я разгадал этот символ: то было лезвие крестьянской пики. И это безумие, точнее, лишь малая его толика. Добавь сюда и барабанную дробь, и мушкеты, и зеленое шелковое знамя. Так и провалялся этот образ на задворках памяти, нечем его оживить.
— Дай срок, и он оживет, — опрометчиво сказал я и в ужасе осекся, глупые слова мои, казалось, бесконечным эхом отзывались меж каменных тесных стен.
Но Оуэн лишь рассмеялся и ничего не сказал. Заговорил он чуть позже.
— Помню еще в детстве, отец вместе с другими батраками нанялся пахать у Хассета, чтоб его на том свете черти драли. В полдень я принес им ведро воды, чтоб было чем запить лепешки. Сели мы с отцом у межи, поели лепешек, и отец растянулся прямо на земле и засмотрелся на небо. А я сидел и смотрел на пашню, на лошадей, на плуг. Деревянный, сейчас таких и не встретишь, почти как соха, только обрез стальной. И в этой блестящей полоске — все то мартовское утро.
— И что же здесь удивительного? — Я вообразил было, что понял его. — Написал же О’Салливан стих о лопате. Почему бы не написать о плуге?
Но он лишь досадливо дернул плечом, широким плечом пахаря.
— Мои стихи в ящике у Джуди Конлон дома, — сказал он, — буду благодарен, если съездишь к ней на днях и заберешь. — Она женщина порядочная, но лучше, если стихи попадут в руки образованного человека.
Я, конечно, пообещал забрать стихи, и мы вновь замолчали. Так просидели мы часа два с лишним. Ноги у меня точно вросли в пол. Я не знал, как мне проститься с ним. Раз в решетчатое окно вдруг ударил свет фонаря, на нас воззрилось чье-то темное лицо и исчезло.
— Бедняга тюремщик всю ночь глаз не сомкнет, если мы будем так сидеть, — усмехнулся Оуэн. — Отправляйся-ка ты домой, к Брид и Тимоти.
Я встал, однако Оуэн продолжал сидеть. Я обнял его, поцеловал. На глаза навернулись слезы, ноги задрожали, в горле застрял комок. Оуэн положил мне руку на плечо и крепко стиснул его.
— Счастливо вернуться домой, — пожелал он.
Пятница. Записывал я о вчерашнем дне почти всю ночь, спать не ложился, да и не мог: как не написать о последних часах жизни на земле поэта Оуэна Мак-Карти. Перечитывая записи сейчас, я вижу, что много пропустил, впрочем, достаточно и того, что есть.
Лавку сегодня я не открывал. К восьми утра народ уже запрудил всю Крепостную улицу вплоть до перекрестка с Высокой. Тимоти еще спал. А мы с Брид сидели за столом друг против друга, она положила правую руку на мою. Чай на столе в чашках давно остыл. Вскоре до слуха нашего донеслась барабанная дробь со стороны Крепостной улицы. Толпа притихла, а через минуту-другую взревела. Мы с Брид постыдились даже обменяться взглядами. Я перекрестился. Requiescat in расе. [44] Мир праху его (лат.).
Вторник. Сегодня я побывал в Угодьях Киллалы, в домишке у Джуди Конлон. Она охотно отдала мне ящик со стихами Оуэна. Сказала, что берегла как зеницу ока, особенно когда пришли гвардейцы, пожгли немало домов (ее, к счастью, не тронули), с населением обращались грубо, недостойно христиан. Мне она показалась женщиной приятной и скромной, несмотря на то что жила во грехе.
Несколько миль меж Киллалой и Баллиной ехал я вдоль стены, единственной моей попутчицы на пустынной дороге. Каменная стена эта, великолепно выложенная и облицованная, отгораживала владения лорда Гленторна. Стена высокая — всаднику едва заглянуть. За ней — знаменитая усадьба, словно сказочный замок, спустившийся в Мейо с небес из-за тридевять земель. Метко окрестили его владельца Всемогущим.
Увидел я его дом в предвечерний час, лучше времени и не выбрать. Светло-голубое, переходящее в салатное небо, тронутые багрянцем облака — завтра будет ветреный, на удачу морякам, день. Да разве было у нас когда что-либо общего с этим упрятанным за каменными стенами миром, ворота в который охраняют мраморные мифологические чудища: крылатые кони, орлы, львы, обезьяны, великие и малые драконы? Кареты, сверкая на солнце полированными боками, проезжают мимо; всадники и охотники стремглав несутся по осенним, буровато-желтым полям. Глядя на них, захватывает дух. Господа в алых камзолах, дамы в черных и зеленых бархатных амазонках. Остановятся у трактира, опрокинут, вытянувшись в седлах, стаканчик шерри, виски или кларета, а подле скакунов в нетерпении заливаются лаем гончие. Лица у всадников красные, носы орлиные, голоса резкие и звучные, точно лай их собственных гончих.
Читать дальше
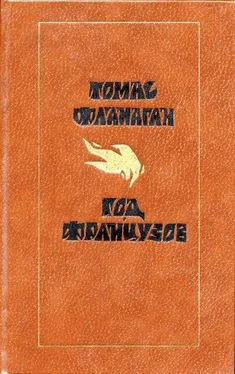

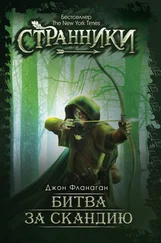








![Шейла О'Фланаган - Пропавшая жена [litres]](/books/399960/shejla-o-flanagan-propavshaya-zhena-litres-thumb.webp)