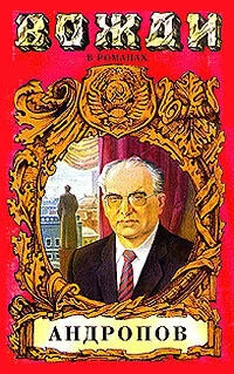— Ку-ку! Я здесь!
— Явился! — Вика подбежала ко мне, легко обняла, обдав летучим облаком духов («Шанель», мой подарок к 8 Марта), чмокнула в щеку.— Как ты? Ничего, ничего! Вполне. Только перегарцем несет. Когда будешь говорить с дамами, закрой ротик ладошкой. А головка? Вава?
— Я в норме. Как тут?
— Смотри сам.
Было бодрое апрельское утро. Апрельское и московское: голубое небо в рамке крыш, голые деревья. На клумбах вокруг Александра Пушкина возились садовники в ярких оранжевых фартуках. Пенсионеры с газетами на скамейках. Улица Горького, запруженная машинами. Все вроде бы обычно. Впрочем, нет. Небольшими группами стояли тут и там люди, и я сразу увидел несколько знакомых журналистов, корреспондентов американских и европейских газет, журналов, теле— и радиоагентств.
— А нашего брата нет,— сказала Вика.
— То есть? — не понял я.
— Колю Кайкова в подземном переходе перехватили. Мы с ним договорились у театрального киоска встретиться. Прихожу, Коля уже ждет. И тут меня — представляешь? — два типа опередили. Один, такой весь из себя вальяжный, взяв Николашу под руку, говорит: «Вряд ли, Николай Семенович, читателей «Вечерней Москвы» заинтересует ожидаемый инцидент». И увели, сердешного. Хорошо, не успела подойти. А то и меня бы за компанию прихватили.
— Но почему? — не мог понять я.
— Арик! Не заводи меня! Почему! Потому — вот и весь ответ. Советские корреспонденты на сегодняшний спектакль не допускаются. Почему? Начальству виднее. Видишь? Здесь ошиваются только твои коллеги. Отечественные средства массовой информации представляю, похоже, только я, потому как свободный художник. А вообще, Арик, что-то не так. Уж больно тихо, даже чинно. Хотя милиции нагнали… Ты видишь, сколько их?
Действительно, я как-то сразу не обратил внимания. Милиционеры синели своими шинелями под деревьями, на заднем плане предстоящего события, в конце сквера Их было много, похоже, они взяли в каре весь этот скверик между памятником Пушкину и кинотеатром «Россия». Несколько желтых милицейских машин стояло за сквером со стороны серой громады «Известий».
Народ все-таки прибывал. И не только зарубежные корреспонденты. Появились роскошно одетые дамы, чинные мужчины в строгих костюмах, группы молодых людей и девушек, тоже одетых модно и ярко. Люди обменивались рукопожатиями, тихо разговаривали.
Нарастало нервное напряжение.
Стрелки на круглых часах показывали уже десять минут двенадцатого.
— Идут! Идут! — взорвал странную полутишину радостный мальчишеский голос.
Они появились со стороны кинотеатра «Россия», их ряды как бы вырастали из-под кинотеатра — от него к скверу вверх вела небольшая лестница. Я успел сосчитать — в каждом ряду было по шесть человек.
Они молча, неторопливо, но все же печатая шаг, шли к памятнику. («И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…»)
Молодые люди в черных рубашках, некоторые в черных сапогах, все в черных фуражках с фашистской свастикой. Сейчас не могу утверждать, что именно так, но, кажется, в каждой шестерке был один с повязкой на рукаве: на белом фоне крупная красная свастика. Стройные, спортивные фигуры, у большинства из-под фуражек — длинные волосы. Лица напряжены, но спокойны. Они шли молча.
И вокруг все смолкло. Появилось даже ощущение, что на улице Горького остановили движение (но это, конечно, было только ощущение, иллюзия). Лишь мерцали вспышки фотокамер. Я лихорадочно сделал несколько снимков, стараясь поймать на крупный план наиболее выразительные лица, меня охватил привычный профессиональный азарт, и на какое-то время я забыл о Вике.
Самое невероятное заключалось в том, что молодым русским фашистам ничего не препятствовало: милиция бездействовала, люди в синих шинелях даже не приблизились к черной колонне, в которой было, я думаю, человек пятьдесят, не больше.
Они подошли к памятнику русскому поэту («…Что в мой жестокий век восславил я свободу…»), остановились. И, похоже, не знали, что делать дальше. На многих лицах возникла растерянность. Или разочарование. Не знаю, что точнее.
— Смотри! Смотри! — Вика, появившись сзади, схватила меня под руку.— Смотри!
Один из молодых людей, высокий, светлый, с правильными, резкими чертами славянского лица, поднял над головой… Как сказать? Портрет? Да, пожалуй, так, портрет двух людей: на профиль Гитлера чуть-чуть накладывался профиль Сталина, и оба вождя, выполненные художником резко, грубо, но с впечатляющей силой, как бы слились в смертном объятии, призывая своих последователей идти в бой за великую Идею до конца.
Читать дальше