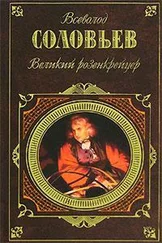Madame Тиммерманъ достигла своей цѣли, какъ говорили, пансіонъ принесъ ей весьма значительное состояніе. Холодъ и голодъ, испытанный нами, порча нашихъ желудковъ и всего организма именно въ тѣ годы, когда человѣческій организмъ требуетъ особенно серьезныхъ заботъ для своего правильнаго развитія, порча нашихъ характеровъ и всякая нравственная порча, происходившая отъ скверныхъ надзирателей, единственнымъ достоинствомъ которыхъ было то, что они соглашались служить за малое жалованье, вотъ на чемъ алчная нѣмка основала свое благосостояніе. Пошло-ли ей и ея семьѣ въ прокъ это благосостояніе, я не знаю.
Какъ-бы то ни было, тощая, прилизанная, всегда спокойная, съ холоднымъ и безжалостнымъ взглядомъ круглыхъ глазъ, она, чуть свѣтъ, уже была въ движеніи, въ работѣ, поглощенная выниманіемъ денегъ отовсюду. Тиммерманъ-же только носился по пансіону со своей развѣвавшейся гривкой и склоненною на бокъ головою, взвизгивалъ, иногда совсѣмъ некстати, привычное «silence!», давалъ латинскіе уроки въ младшемъ классѣ и, очевидно, гдѣ-то виталъ мыслями, о чемъ-то мечталъ. Впослѣдствіи выяснилось, что его любимымъ занятіемъ, сутью его жизни, были веселыя бесѣды и попойки съ разными родственниками и товарищами, московскими пѣвцами всякихъ профессій. Вѣроятно, вслѣдствіе этихъ бесѣдъ и попоекъ, тиммермановскій носъ краснѣлъ не по днямъ, а по часамъ, и на моихъ глазахъ изъ невзрачнаго, но все-же человѣческаго носа превратился. въ какую-то висюльку ярко-малиноваго цвѣта.
Надзиратели могли-бы, можетъ быть, занимать какія угодно должности, только не надзирателей; откуда они брались, сказать трудно, и я даже отказываюсь дѣлать по этому предмету какія-либо предположенія. Начать съ нѣмцевъ. Хипцъ — грязный, глупый и глухой, вѣчно былъ облѣпленъ пластырями и, страдая хроническимъ насморкомъ, мылъ въ классѣ, изъ графина, надъ плевальницей, свои носовые платки, а затѣмъ сушилъ ихъ на классныхъ подоконникахъ. Онъ вѣчно и всецѣло былъ занятъ этимъ мытьемъ и пластырями, которые отдиралъ отъ своихъ болячекъ и снова налѣплялъ, классъ-же при немъ могъ невозбранно предаваться всѣмъ своимъ инстинктамъ. Гринвальдъ, сухой какъ мумія человѣкъ среднихъ лѣтъ, или спалъ на каѳедрѣ, или велъ бесѣду съ нашими нѣмчиками, которыми только и занимался. Мертенсъ, добродушнаго и наивно-комичнаго вида толстякъ, называвшійся у насъ «водовозомъ», только и дѣлалъ, что разсказывалъ своимъ любимчикамъ смѣшные и непристойные анекдоты и всѣхъ старшихъ пансіонеровъ приглашалъ къ себѣ, увѣряя, что у него «ошень миленьки, добри и смѣшни дочки».
Изъ французовъ, кромѣ звѣря и человѣконенавистника Дерондольфа, о которомъ я уже говорилъ, я помню еще m-r Жюльяра. Онъ также давалъ намъ уроки французскаго языка, замѣнивъ собою чопорнаго и театрально-изящнаго Сатіаса. Жюльяръ былъ еще молодой человѣкъ, худенькій, юркій, съ такимъ большимъ, непонятно-тонкимъ и острымъ носомъ, что могъ, кажется, обмакнувъ его въ чернила, писать имъ вмѣсто пера. Но хоть и не носомъ, а онъ писалъ, писалъ стихи, и даже издалъ книжку своихъ стиховъ. Особенность его музы заключалась, въ томъ, что онъ писалъ свои стихотворенія такъ, что изъ ихъ строкъ образовывались разные предметы: то графинъ, то рюмка, то ваза, то крестъ. Помню, даже одно стихотвореніе было въ формѣ женской головки. Конечно, въ этомъ проявилось своего рода искусство; но можно себѣ представить, что за безсмыслица заключалась въ этихъ стихотворныхъ фигурахъ!
Жюльяръ былъ, конечно, преисполненъ сознаніемъ своей геніальности, постоянно говорилъ только о себѣ, только о своихъ стихахъ и успѣхахъ, заставлялъ насъ учить наизусть, въ видѣ избранныхъ произведеній французской поэзіи, эти стихи-фигуры.
Вотъ онъ на каѳедрѣ водитъ острымъ носомъ, какъ указкой по журналу… Вдругъ, закинувъ голову и тряхнувъ длинными «поэтическими» волосами, крикнетъ, смотря на меня:
— Eh bien, Vériguine, récitez ma «bouteille»!
И я долженъ декламировать ему его «бутылку», — нѣчто невообразимо-нелѣпое.
Конечно, очень скоро мы обратили его въ шуты, издѣвались надъ нимъ всячески, онъ не выдержалъ — и покинулъ пансіонъ, къ нашему величайшему огорченію.
Памятенъ мнѣ еще англичанинъ, мистеръ Джэкоби, по прозванію «козелъ». Онъ, дѣйствительно, какъ двѣ капли воды походилъ на козла и совсѣмъ по козлиному трясъ своей козлиной бородою. Онъ былъ золъ и свирѣпъ; кромѣ англійскаго языка ни на какомъ не понималъ ни слова и это его, очевидно, особенно раздражало.
Читать дальше