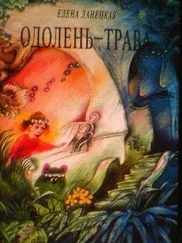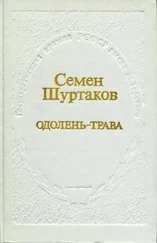— Вы правы, имею деловое предложение.
Во двор вкатили сани. Колокольчик названивал. Конь, разгоряченный скачкой, храпел и фыркал у крыльца.
Послышался капризный голосок:
— Женя, помоги, дай руку!
Высоковский это с барышней Куприяновой. У, купчиха, повадилась! И чего в ней хорошего? Нос напудрит, жеманится, глазки закатывает перед Викентием Пудиевичем — и папироса на отлете, пальчик-мизинчик оттопырен. Фу-ты, ну-ты, пополам бы ее перервала!
Тянется молодежь к Пахолкову. Редкую неделю не бывает у него уездная интеллигенция: из земской управы, с почты, учительской семинарии.
Споры, разговоры. А то землемер Евгений Высоковский гитару возьмет, телеграфист Михаил Борисович начнет задушевно:
Как дело измены.
Как совесть тирана.
Осенняя ночка темна…
Запрещенная песня. Революционная, вот что.
Под надзором полиции состоял наш учитель! Потому что «социалист».
Он образованный, начитанный. Говорят, книг в горнице у него — шкапы ломятся. Прялок, резных старинных шкатулок, икон старопрежних столько наношено, что на воз не скласть. Неверующий, с попом вечные нелады — зачем ему иконы? Прялки-пресницы зачем? Не простой он, Викентий Пудиевич, в этом все дело.
* * *
Вокруг отцовской кузницы березы. Белые-белые. Высокие. Под самые облака.
Бывало, здесь всегда людно: что зимой, что летом. Идут и едут, бывало, со всей волости к Григорью-мастеру. Отец ремонтировал хозяйственный инвентарь, дроги ладил и сани. Посуду, самовары лудил. Ходики несли ему в починку, и, помню, тикали часы в избе наперебой. Выучился отец часовому делу от ссыльных из Городка, проживших как-то в селе больше месяца и помогавших в кузне.
Заколочена кузница. Третий год война…
Ворота хлева покосились. Желоба на избе погнили. Нет тяти, в этом все дело.
Дома я застала гостью, тетю Полю с Выселок, с хутора. Принесла, поди, своего Васюту показать. Первенец он у ней, души в сыночке не чает.
— …Травки, они, Густя, разные бывают, — говорила Поля с мамой. — Есть от болезней, есть на приговор от дурного глаза, есть и на добрый путь, встречу добрую. А с домом кому разлука, путина ждет дальняя, тому лучше одолень-травы ничего нет, все она одолеет.
— Здравствуй, тетя Поля, — с порога поздоровалась я. — Мам, в Питере, знаешь, революция. Царя нет, отрекся, и уроки в училище до единого отменили. А рама… Мамочка, а рама-то вдребезги! Со всеми портретами!
— О мире ничего не слышно?
Кто о чем, мама — о мире. Чтобы скорее войне конец и тятю домой вернули. Потолкуй вот с ней о новостях.
Недолго дома побыв — Васюту посмотрела, как в пеленках спит, да кусок перехватила всухомятку, — побежала к Тимохе.
Дедко топил печь. Чад в избе, окошек не видно. А Тимоха привычный, трубочку, знай, потягивает.
Бобыль он, когда по неделе, когда дольше пропадает на путиках — ловчих лесных тропах. Старуха померла, одному тоскливо ему: понастроил избушек в суземе [1] Сузем, суземье — глухой лес, тайга. (Здесь и далее примечания автора,)
там и живет.
— О, гостьюшка! Проходи, честь да место! — закричал Тимоха.
На спицах, вбитых в стену, шкуры развешаны — дедко на путике добыл. Лисьи, алые, как огонь. Рысья, серая в пятнышках. У куничьих шерстка-то шелковая — ладонь так и льнет.
— Тятя все твой… да-а. Мастер твой батюшка. По край жизни перед ним я в долгу. Столь дородно отковал капканы, коий год без смены служат. На ноги меня поднял твой тятька. Стрелок из меня праховый. Опять же дробь, порох не по карману. Кабы не капканы — пропал. Кормят меня капканы. Твой батюшка отковал… да-а!
— Як тебе, дедушка, ненадолго. Дай я тебе воды принесу.
— Полно! Полно-ка! — вскинулся дедко. — Гостье честь да место!
Но и воды я принесла с колодца, и в избе вымыла, и бельишко старика собрала: скоро будет у нас постирушка, так уж заодно.
— Ну, я пошла, дедушка.
— Пса свово науськаю, — загрозился Тимоха. — Глухарь в печи преет, эт-то для кого?
Стемнело, огни зажглись по посаду, в избе Тимохи лучина горела: никак старик не отпускал от себя, потчевал жарким из глухаря, развлекал россказнями, бывальщинами лесными.
— Куница — зверек с хитростью. Лиса, та вовсе грамотейка: напетляет, напутает… Чистописанье, да и только! И что там лиса, ежели у мышонка и то свой интерес. Да-а… да-а! Высунется мышонок из норки — лапкой туды-сюды. Шебаршит палыми листьями. Нарочно ведь он, ради своего интереса. Сова либо лиса есть поблизости, то сдуру к нему и сунутся: мы-де его поймаем. А мышонку того и надо. Перед лисьим носом шмыг в нору — и был таков. Обманет лису-то мышонок… да-а. Запросто с носом оставит!
Читать дальше