Хоронили старого гусляра всей Москвой, пришел люд из Ремесленного посада и княжьи гридни, помянули Фому добрым словом. А на второй день явились в кабак к Ермолаю Сорвиголов с товарищами. Сказал атаман ватажников:
— Прослышали, что не стало Фомы, помянем его.
Выставил кабатчик на стол мед хмельной, миску глиняную капусты квашеной, приправленной кольцами лука репчатого, мясо отварное дикого вепря.
— Пусть Господь не оставит своей милостью нашего Фому, — промолвил Сорвиголов и разлил медовуху по чашам.
Заглянул в кабак Олекса. Увидел Сорвиголова, присел на лавку, к краю стола.
— А, гридин, — раздвинулись ватажники, — деда твоего поминаем.
Олекса вздохнул:
— Он мне жизнь показал, уму-разуму наставил.
— Это ты верно заметил, — согласились с гриднем ватажники, — Фома многое знал, верный человек был.
Олекса придвинулся к Сорвиголову:
— Скажи, Сорвиголов, не твои ли товарищи на владимирского боярина на прошлой неделе насели? Тот боярину Селюте жаловался, а Селюта князю Даниилу созывал, и князь велел изловить ватажников.
Сорвиголов презрительно скривил губы:
— Владимирского боярина упустили, слишком чижолый дух из него исходил, и след желтый до самой Москвы тянулся.
Ватажники весело рассмеялись, а Сорвиголов продолжил:
— Однако спасибо те, Олекса, упредил, береженого и Бог бережет.
Из кабака Ермолая Олекса выбрался, когда солнце подкатилось к полудню. Его по-зимнему яркие блики осветили кремлевские стрельницы, искрились на снежных сугробах. Но Олекса не замечал этого. Он корил себя, что последнее время редко навещал деда и даже вспоминал о нем от случая к случаю. А ведь старику гусляру обязан был Олекса своим спасением. В годину разорения Переяславля, что под Киевом, увел Олексу гусляр, со стариком он чувствовал себя спокойно; они кормились, побираясь от деревни к деревне, платили люду игрой на гуслях и пением. Старик знал много сказаний и былин, и Олекса у него всему учился. Так почему же он забыл своего спасителя и учителя? Но забыл ли?
Нет, Олекса не мог запамятовать старого гусляра, просто, оказавшись в княжьей дружине, он с головой окунулся в иные заботы, а теперь вот Дарья.
Олекса вдруг замечает, что ноги несут его не в Кремль, а на Лубянку, к домику Дарьи. На сердце стало тепло — счастье какое досталось ему повстречаться с Дарьей!
Он ждал, когда назовет ее своей женой, поселится в ее домике. По утрам будет пробуждаться от ее напевного голоса и видеть ее проворные руки и добрую улыбку. Но такое время наступит, когда сама Дарья этого пожелает.
Протоптанная в снегу тропинка тянулась вверх на горку, мимо огороженных домиков с глухими воротами, калитками. За высокой бревенчатой оградой просторные, на подклети хоромы боярина Стодола, старого княжеского дружинника. Стодола не только гридни молодшей дружины побаивались, сам князь Даниил к нему с почетом обращался, потому как Стодол у самого Александра Невского служил. А когда сына своего младшего на Москву посадил, велел Стодолу быть для Даниила дядькой верным. Сына напутствуя, говорил:
— Ты, Даниил, к разуму боярина прислушивайся, он за тебя и твое княжество радеть будет…
С той поры четыре десятка лет минуло, постарел Стодол, однако меч в руке еще крепко держал и советником у князя был первым. Случалось в Орду князю Московскому ехать, боярин Стодол с ним.
На Великом посаде тропинка раздваивалась: налево вела в Кузнечную слободу, направо, ближе к Москве-реке, селились лубяных дел мастера, скорняки, огородники, пирожники и всякий иной люд. Олекса свернул направо и вскоре очутился у Дарьи. Хозяйки дома не оказалось. Открыв сени, гридин отыскал топор, скинув суконный кафтан и шапку, принялся колоть дрова. Не заметил, как и Дарья вернулась, поставила на порог плетеную корзину, прикрытую белым льняным рушником, расцвела в улыбке:
— Поди, оголодал, работничек?
А у Стодола хоромы просторные, в подклети холопы холсты ткут, и чеботари у боярина свои, да вот сиротливы палаты. В молодости все недосуг было жену отыскать, а пролетели годы — оглянуться не успел, теперь будто и не к чему. В палатах у боярина не слышалось детских голосов, а за стол трапезовать усаживался он один как перст.
Однако привык к тому, будто по-иному и жить нельзя. Ночами, когда не было сна, память к прошлому возвращала. Все больше к детским и отроческим годам в Новгороде Великом. В ту пору там княжил Александр Ярославич, народ его чаще Невским поминал. Он-то и Приметил Стодола, сына плотника, тот с отцом в то лето княжьи хоромы обновлял.
Читать дальше



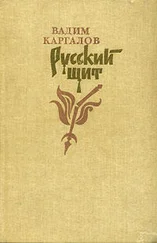
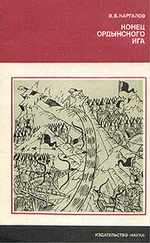

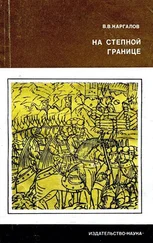
![Вадим Каргалов - У истоков России [Историческая повесть]](/books/394663/vadim-kargalov-u-istokov-rossii-istoricheskaya-pove-thumb.webp)

