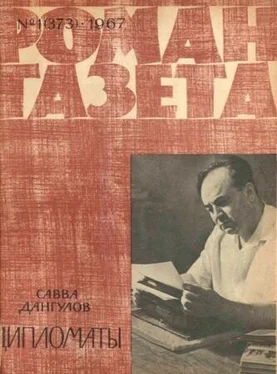— Бюлов был здесь до отречения… кайзера? — спросил Репнин.
— До отречения, — сказал Шульц, с угрюмой пристальностью глядя на Репнина, и разлил вино по бокалам.
— И речь шла об отречении?
— Да, конечно. — Шульц коснулся бокала, но не поднял его. — Бюлов сообщил, что накануне с ним беседовал один испанский дипломат. Испанец сказал, что кайзер попросил у Испании убежища. — Шульц не отнимал руки от бокала, однако и не пытался бокал поднять. — Был даже получен ответ. В соответствии с рыцарским духом нации, король испанский готов был принять кайзера. Но как добраться до Испании — вот вопрос! — Голос Шульца воспрянул. — Обычный путь через Париж и Эндай-Ирун так же малоприемлем, как и морской через Италию и Барселону. Единственный путь — подводная лодка и Бискайский залив. Господи, короли спасаются бегством на подводных лодках! За твое здоровье, Николай! — неожиданно поднял бокал Шульц.
— А я думал, за германского императора! — рассмеялся Репнин.
— Ты полагаешь, что я вел разговор к этому? — произнес Шульц, пряча улыбку в рыжие усы, ему нелегко было ее упрятать. — Ни один германский монарх не был обезглавлен, — произнес он с пафосом, который Репнин не очень понял. — Ни один германский властелин, ни тайно, ни явно!
— Погоди, погоди, это тоже сказал Бернгард Бюлов? — спросил Репнин.
— Бюлов.
— В знак скорби по царствующему дому? Шульц взял бокал, взял, как показалось Репнину, чтобы отвести глаза от собеседника.
— Думаю, в знак скорби и… осуждения Вильгельма!
— Но что надо было делать Вильгельму? — посмотрел Репнин на Шульца.
— Сражаться, сражаться, чего бы это ни стоило! — Шульц налил новый бокал. — Покрепче натянуть вожжи и воевать. Всех наличных мужчин, у которых есть силы, чтобы нажать на спусковой крючок и выстрелить, отправить на фронт. Если даже император смалодушествует и покинет родину, вернуть его и заставить быть императором!
— Так полагал Бюлов?
Шульц насторожился: его рыжие уши пришли в движение.
— Да, Бюлов.
— А как думаешь ты?
Руки Шульца невольно потянулись к ушам — надо было погасить пламя, живой ладонью зажать.
— Республика… не для Германии.
Часом позже они вышли из дому, оставив дверь в доме открытой — в такой жаре не усидишь. Долго стояли посреди мокрого сада, дожидаясь, пока глаза будут способны что-то видеть. Потом во тьме обозначилась крона дерева с широкой прядью сухих листьев, светлый круг фонтана, бетонный бордюр садовой дорожки, сам дом, большой, с верандой, выходящей в сад.
— Позавчера стояли здесь с Гофманом. Да, тем самым, и он, представь себе, проклинал Брест! Все несчастья, так думал он, начались с Бреста. Да, именно Брест дал возможность Лондону и Парижу убедить мир в претензиях немцев на мировое господство.
Шульц затих и поднял глаза на дом, черные окна которого, окантованные светлыми рамами, были будто развешаны в ночи, каждое на своей веревочке, может, поэтому каждое по-своему раскачивалось и вздрагивало.
— Это Гофман проклял Брест? — спросил Репнин.
— Нет, не только — Шульц тоже. — Он отвел глаза, неспроста он приволок Репнина в эту тьму, здесь упрятать глаза легче. — И все-таки… не дай бог, чтобы поднялась у вас рука на Брест! Для вас Брест — территория, для нас — больше…
— Революция? — спросил Репнин, он хотел, чтобы Шульц договорил до конца, ничего не утаил, все выложил.
— Нет, я этого не сказал, — заметил Шульц.
В доме зазвонил телефон — звонок был тонкий, режущий.
— Слышишь? Звонит Мольтке! Нет, не тот — его племянник, шеф информации в «Берлинер тагеблатт». Согласился в знак личных симпатий сообщать все чрезвычайное — так сказать, личная служба президента! — Он засмеялся. — Вчера поднял с постели и сообщил, что в Компьенском лесу подписан договор. Разумеется, я его отругал: «Что же здесь чрезвычайного? Я знал об этом еще первого августа четырнадцатого года!» — Они вошли в дом. Шульц пошел к аппарату, не торопясь, демонстрируя характер. — Здравствуй, дружище Мольтке! Что ты сказал? Кайзер прибыл в замок Амеронген? Ну что ж, вот это сообщение чрезвычайное! Благодарю тебя, Мольтке! — Шульц положил трубку, печально взглянул на аппарат. — Не телефон, а часы революции!
Он сел за стол, обернулся к печи, в которой поленья уже были превращены в угли, крупные, затянутые мерцающей пленкой.
— Подсыпать сухих листьев в огонь? Запахнет, как в осеннем лесу. — Он налил еще вина. — Мне говорили приятели, бывавшие в России, что видели тебя на Спиридоновке… Вон как! — Он изобразил голосом нечто похожее на радость, однако в главах была тоска. — Я сейчас вспомнил: ты говорил мне, что знал в Лондоне некоего Чичерина. — Он продолжал смотреть на Репнина, а глаза все еще были тоскливы. — Это нынешний Чичерин?
Читать дальше