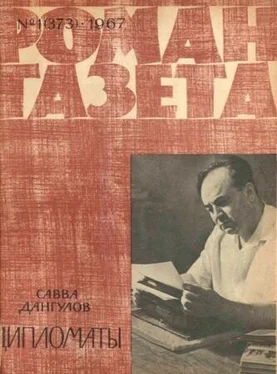— Чудные люди эти немцы, — хлопал красными веками бельгиец. — Говорят о каком-то фантастическом ящике, который упал с тачки на берлинском вокзале, распался и засыпал весь Берлин листовками с призывом к революции, разумеется, русскими листовками. — Бельгиец недоуменно разводил руками. — Я спрашиваю: «Ящик упал с тачки или с самолета?» — «С тачки», — говорят немцы. «И засыпал весь Берлин листовками?» — «Засыпал». — При этом бельгиец смеялся и выглядывал из окна: поезд отходил, а перрон был полон народу, такое впечатление, что пассажиры остались на перроне и поезд ушел пустым.
А ранним вечером километрах в двухстах от Берлина бельгиец выглянул в вагонное окно, воскликнул: «Однако эти листовки с берлинского вокзала проникли и сюда!» Вслед за бельгийцем Репнин посмотрел в окно и увидел корпус завода, точно сложенный из тесаных глыб антрацита, асфальтовую мостовую и добрую сотню рабочих, идущих с красным флагом. И вновь пришли на память слова: «Революция — татарник, на культурных землях не растет».
Репнин уже не мог отойти от окна: смеркалось. Черная вода в реках, черные рельсы — они разлиновали и землю, и небо, черные кирпичные заборы, и чайки, грязно-черные, задымленные, на этих заборах. А много позже, вечером, поезд остановился на полустанке, затопленном ночью, и Репнин вышел. В ночи разговаривал колокол. Разговаривал не по-русски. И Репнин вдруг понял, что он в Германии, в той самой трижды проклятой, вильгельмовской, которая виделась ему единственной виновницей русского горя. И Репнину вдруг показалось, что ничто не изменилось с тех пор, как началась война: есть фронт от Черного моря до Белого, есть траншеи и в этих траншеях русские люди. Все было как прежде. Непонятно лишь, как Репнин преодолел фронт и очутился под Берлином, на этой платформе, затопленной ночью, под этими ударами колокола…
Поезд пришел поздно вечером. Едва он остановился, в дверь купе постучали. Репнин открыл дверь. Черноглазый великан в бушлате, назвавший себя Алексеем Апатоновым, посольским управляющим делами, не сообщил, а доложил, что ему поручено встретить Николая Алексеевича.
Войдя в купе и осторожно закрыв за собой дверь, он сказал, что посол и его коллеги покинули Берлин еще той ночью, вынуждены были покинуть, и что единственным хозяином в посольстве является он. Алексей Апатонов. Дождавшись, пока Репнин закончит сборы. Апатонов взял из рук Николая Алексеевича один из чемоданов и двинулся было к выходу, но остановился, заметив, что на перроне Репнина ожидает некто Шульц.
— Не хочет и слышать, что вы поедете вместе со мной, — произнес Апатонов, не глядя на Репнина. — На мое замечание, что я готов отвести вам хоть целый особняк, ответил, что особняк есть и у него.
Репнин сказал Апатонову, что Шульц действительно его давний приятель и Николай Алексеевич хотел бы этот вечер провести с ним, к тому же у него есть к Шульцу дело.
Невелика дорога от купе до перрона, но сколько мыслей промелькнуло у Репнина. Он вспомнил посольскую квартиру Шульца в красном доме у Исаакия, пианино в простенке, на котором недурно играл хозяин, двухпудовые гири в углу, — Шульц убедил себя, что обладает силой необыкновенной, и, обмениваясь первым рукопожатием, считал необходимым так сдавить руку своего нового знакомого, что у того слезы выступали, при этом дамы не могли рассчитывать на снисхождение. В остальном Шульц был славным малым: он даже увлекался философией и слыл вольнодумцем, не щадя и монарха, который правило в подборе потсдамских офицеров (разумеется, по росту) перенес на подбор статс-секретарей; последний из них (по иностранным делам) был назначен после того, как покорил сердце императора тем, что во время поездки в Танжер легче и быстрее остальных поднимался и спускался по веревочному трапу яхты «Гогенцоллерн». Репнин готовился встретить рыжеусого здоровяка с лицом, усыпанным ярко-красными веснушками (на ум пришла фраза Ильи, обращенная к Шульцу: «Милый Франц, отдаю должное твоей родовитости, но не вижу твою кровь голубой, она у тебя рыжая!»), а встретил сухонького человека с быстрым взглядом.
— Ничего не пойму: ты мне казался и выше и могучее! — произнес Репнин, приветствуя приятеля. — Этак ты и пудовой гири с места не сдвинешь!
— Я и сам не пойму, что со мной сталось — высох, как высыхает кисель! Был кисель, а осталась… корочка! Как будто и не болел, но даже ростом стал меньше! Но сила есть! — Нет, это только казалось, что Шульц изменился, он был прежним.
Читать дальше