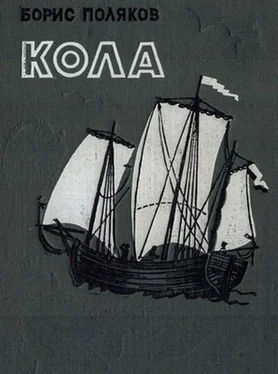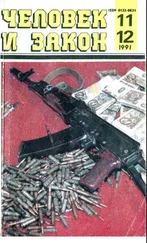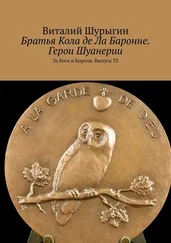И не успел еще осознать, что происходит совсем не то, чего он ожидал, как Сиволобый опять поднялся:
– Смута, что учинил Матвей, может конец худой иметь в Коле. Без вины кровь людская прольется, вдов и сирот прибавится. Не можем мы допустить такое. И, чтобы Матвею и другим неповадно было смутьянничать, присудим, граждане старики, к плетям его, наказанию принародно.
«Так, – отметил Матвей, – начал гладью, а кончил гадью». И по тому, как не колеблясь сказал Сиволобый слова такие и как не воспротивились старики, Матвей вдруг с ужасом понял: присудят! Как? Старики! За землю, которой не только они – прадеды их владели?
Вспомнил на миг, как Дарья напутствовала: "Дам тебе шкурку ужа заговоренную – надень на шею. В суде скажи про себя трижды: в земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки – помоги уйти! Ужом уйдешь от суда". Не послушался, просмеял Дарью. А теперь поздно, не убежишь. Да и куда? Без Колы жизнь Матвею немыслима. И он хочет еще раз объяснить старикам, пронять их, наконец.
Но не знал Матвей, что с каждым из них, да так, что другие про то не ведали, говорил до суда исправник.
Одному с улыбкой напомнил грехи старые, другому польстил и всем одно советовал: не покается Матвей – присудить к плетям его. Оттого и сидел соглядатаем: не покачнутся ли старики? Оттого и старики будто воды в рот набрали...
И Матвею не раз потом в долгой жизни являлся кошмаром сон. Из-за стола поднимается Сиволобый и медленно превращается в дым, покачиваясь, растет им до потолка, и оттуда, сверху, раскатом разносится его голос:
— Кайся!
Он протягивает к Матвею руки, и они тоже растут, влажно берут Матвея за плечи, горло, сжимают с силою лешего и давят так книзу, что нет сил стоять.
У исправника голова свиная, смоленая, растет, наплывает близко. На обжаренном рыле глаза светлые, дико живые, не мигая уставились на Матвея.
Открывается пропеченная пасть, меж желтых тупых клыков осклизлый язык:
— Кайся! Или будешь немедля бит!
Господи! До чего же мерзкая харя! Руки освободить бы, перекреститься. Сгинь, сатана! Матвей не битья – сраму боится. Осмердеешь, как дохлый пес. Это не государев суд, где за мир пострадать не грех. Кто ему после суда стариков поверит? «Стеганец!» – презрительно корят коляне поротых, обходят их стороной, в разговорах чураются. Не только тело рубцами – душа обольется кровью.
— Смирись! Не ходи против миру!
И Матвей изворачивается ужом, хочет руки отнять от горла, сказать старикам: «Не слушайте вы исправника. Я не шел против миру. Мне не в чем каяться».
Но на лавках вдоль стен не старики уже, тени. Чернеют провалами их глазницы, кивают призрачные бороды.
— Кайся!..
И нет силы вырваться, крикнуть, плюнуть в них проклятием: «Иуды!» Липкая сила давит горло, руки мерзко шарят по телу, гнут ногу стреляную, сдирают портки, обнажают до сраму.
– Н-е-е-е-т! – хрипит Матвей.
В окна смотрят приплюснутые носы, глаза, как вареные рыбьи, застывшие.
И Матвею хочется выть от бессилия, уползти в угол, прикрыть наготу. Но сила легко распластывает его, нагого, распяливает руки ему, привязывает их к скамье – не извернешься, и боль от ударов выплескивается кипятком на тело.
— Кайся!
Удары пузырят ожогами кожу, сдирают ее до мяса.
– Кайся!
...Просыпаясь, Матвей вскакивал на постели, весь в липкой влаге, и, судорожно вытирая ее, шептал в беспамятстве:
– Нет, нет! Не покаюсь!
Чувствовал, как горят, вспухая, рубцы, и трогал их, растирал, успокаивая горение, не спал уже до утра и днем даже долго не мог отогнать кошмар сна.
...Шешелов зябко повел плечами, будто и у него там рубцы горели.
Вспомнилось: а Герасимов ничего про писаря не рассказывал. И Матвей, по карте когда показывал, про все смолчал. Солоно же ему пришлось.
Самовар, вскипев, зашипел, забрызгал паром.
– Что же, Матвей таким уже после сделался? – Порку Шешелов не упомянул.
Дарья его поняла.
– После, батюшко. Качнуло это сильно его, совсем другой человек стал. Никуда не встревал больше.
– Чурались его коляне?
– Нет, батюшко, не чурались. Промеж себя-то, может, и поминали, а ему в глаза не тыкали.
– Когда же все это было?
– Дай бог памяти, – Дарья задумчиво отерла уголки губ. – В двадцать шестом вроде. Летом было.
Лето двадцать шестого года. Знакомое очень, тревожное, опять подступило к Шешелову. Не Герасимов и не писарь причиной были. Что же? Еще как на карту смотрел впервые, тогда хотел вспомнить, – не смог.
Столбами, границею занят был. Лето двадцать шестого... Земли и столбы. Отесанные столбы. Щепа валяется. Золотистый и свежий песок из ямы. Врыли столбы поодаль друг от друга, а к ним перекладины не оказалось. Потерялись с подводою. Да, да. Лето двадцать шестого. Неведомый кто-то старался тогда отчаянно: воз с перекладиной был похищен, да и веревки-то не были ли подточены? Жила вера в народе: коль сорвался повешенный – господь каре противится. Долг государя – такому жизнь даровать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу