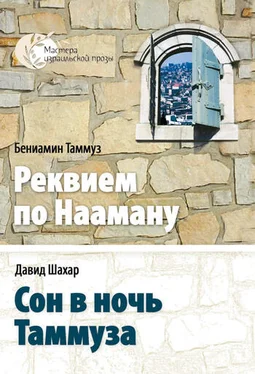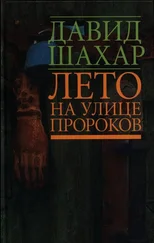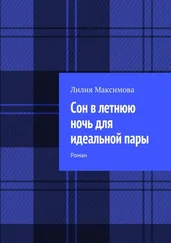Габриэль оторвался, было, от отдушины, но тут услышал цокот копыт, сотрясший вазу с белыми розами. Пара лошадей тянула за собой знаменитую в Иерусалиме «карету Башити», обычно предназначенную лишь для иностранных туристов, желающих сфотографироваться с усатым извозчиком-арабом в красной феске и прокататься в карете с черным верхом и красной подкладкой внутри. Габриэль даже не удивился, ибо знал, что так это должно быть: в карете сидела Орита с молодым лордом, и они ехали на прием к пятичасовому чаю.
Но карета остановилась. Дальнейшее опять же ясно. Сейчас Орита сойдет, чтобы войти к ним дом и пригласить его, но наткнется на закрытую дверь, ибо мать Габриэля в эти часы пребывает в глазной клинике доктора Ландау. Затем каблучки ее нетерпеливо простучат в сторону подвала, и она начнет стучат пальчиком в дверь.
Он же ей не откроет, не только потому, что наг, каким явился на свет, не только потому, что, в отличие от «утренней звезды», глаза Ориты не увидят утреннего бога, облаченного в великолепие и величие небесного полотнища в этом пропахшем плесенью подвале и в этом чуть прихрамывающем, совершенно раздетом парне. Он ей не откроет, потому что нет у него просто желания это сделать.
И воображение Габриэля тотчас обрело реальность: Орита вышла из кареты, войдя во двор, поднялась на веранду. Видящий глаз и слышащее ухо Габриэля наполнились трепетной радостью от ощущения творца, замыслы которого сбываются, удивления, как это все становится как бы творением его рук. Лишь в конце действие несколько сместилось от намеченного им пути, по сути, из-за небольшой технической неполадки в системе связи. Постучав в дверь и убедившись, что дома никого нет, Орита решила оставить Габриэлю записку, всунув ее в отверстие замка, но не нашлось у нее под рукой бумаги. Блокнот ее остался в сумочке, в карете. Она побежала к ней. По торопливости она как-то забыла о подвале, в котором обычно Габриэль уединялся от всего мира. Вначале он расстроился, что она просто уедет, не выполнив намеченного им плана. Но увидев ее снова, вкладывающей записку в замок, успокоился. Он чувствовал себя фокусником, извлекающим из цилиндра кролика, он видел в зеркале себя в образе «обнаженного» то ли бога, то ли идола, и нечто новое, любопытное, некий новый сценарий развернулся в его воображении, что он с трудом сдержал громкий смех, прикрыв рот рукой, чтобы это не услышали сидящие в карете. Подвал был у самых ее колес. Сценарий возник из недовольства, что Орита не следовала его гипнотическим повелениям, и не подошла к двери подвала, чтобы постучать пальчиком по его двери. До этого мига всю свою жизнь Габриэль ощущал недовольство оттого, что Бог управляет миром только наказаниями. Не успел Всесильный создать человека, как тут же обрушил на это еще слабосильное существо, эту глину в Его руках, весь свой гнев, ввел смерть как наказание, изгнал его из рая, и всё потому, что этот несчастный не выполнял Его волю, подобно механизму, лишенному чувств.
Теперь же, когда гнев пробудился в нем самом, Габриэль ощутил чувства, овладевшие Им. Вот же, Я, Бог, создал человека. До того он вообще не существовал, был нулем, ничем, земным прахом. Не было у Меня ничего в руках, кроме горсти праха. Я придал ей форму, вдохнул в нее душу живую, создал существо. Любил его как человека, надеялся, что он и вести себя будет, как человек. Так не то, что в нем нет и капли благодарности, он еще обманывает Меня за моей спиной, а Я по своей наивности верю ему. Стоило мне на миг закрыть глаза, как он уже мне изменил. Как будто нет у Меня права вздремнуть после каторжной работы по сотворению мира в шесть дней. И что Я такого просил у него, у этого избалованного существа, родившегося прямо в раю, не посадившего там ни одного дерева? Единственная просьба была дать Мне поспать после обеда, положить Мои праздничные одежды возле постели и разбудить, чтобы я успел на прием к пятичасовому чаю. Проснулся в испуге! Снилось, что я опутан веревками, и все Мною созданное, расползается, выскальзывает из моих рук, отбирается силой. Человек меня не разбудил, солнце вот-вот закатится, начнется прием в саду. Я вскакиваю, и бегу освежится в реке, орошающей сад, реке, разделяющейся на четыре – Фисон, обтекающую всю землю Хавила, ту, где золото, «и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс» (Бытие, 2,11), Тихон, обтекающую землю Куш, Хидекель – которая «обтекает Ассирию» (Бытие, 2, 14) и Евфрат. А на Хидекеле стоит пальма, и висит на ней золотое полотенце, которым хочу вытереться. Оглядываюсь, пальма исчезла. Только низкие кусты, над которыми уже зажглись гирлянды цветных лампочек. Добираюсь до скамеечки, на которой человек, создание моих рук, творение моих пальцев, должен был оставить мне одежды. Скамеечка пуста. Был бы он рядом, использовал бы его вместо полотенца. Но вижу его там, где на столах уже выставлены всякие угощения, и он поглощает их с чудовищной жадностью, все эти вкусные изделия рук жены судьи, с лицемерным подобострастием и с не меньшей жадностью поглощая каждое ее слово. Он восседает справа от судьи, а я здесь, голый, с меня струится вода, я мерзну и вынужден прятаться за низкими кустами. Нет иного выхода, чем начать бегать вокруг кустов, чтобы согреться. Не успеваю сделать один круг, как раздается истерический женский крик. «Ой, – кричит жена судьи, – кто-то там… за кустами». И я быстро прячусь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу