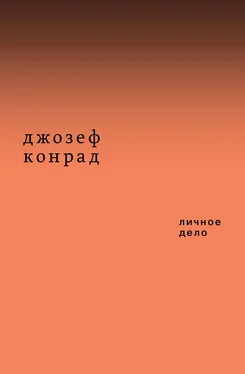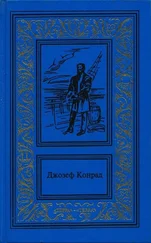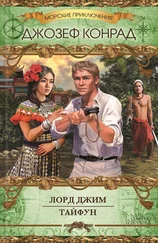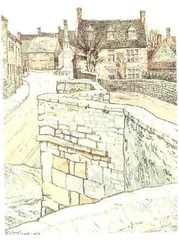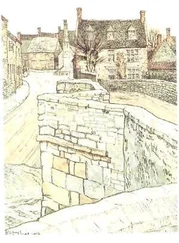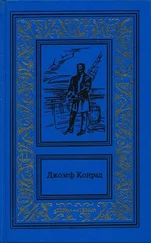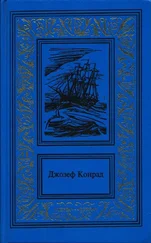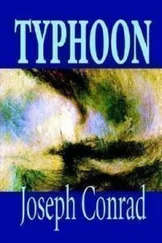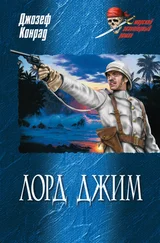Опубликованный в 1915 году роман «Победа» сделал немолодого уже писателя популярным по обе стороны Атлантики, и вскоре Конрад обратил на себя внимание американских кинопродюсеров. После недолгих переговоров агент Конрада – Джеймс Б. Пинкер – уступил компании Famous Players-Lasky (предтеча Paramount) права на экранизацию четырех его произведений (в том числе «Победы») за 22 500 долларов. Покупательная способность доллара была, разумеется, другая, однако Голливуд, как и сегодня, находился в непрерывном поиске «хорошей истории», а продажа прав, как и сегодня, приносила литераторам более устойчивое благополучие. Получив за проделанную работу сумму, значительно превышающую годовой доход, Конрад немедленно приобретает «кадиллак», а к осени снимает недалеко от Кентербери более просторный дом, ставший его последней резиденцией.
Заокеанские деньги не только повысили уровень жизни Конрада, они изменили его отношение к новому медиа. Для литераторов рубежа веков важным источником дохода был театр: постановки неплохо оплачивались, приносили известность и становились двигателем книжных продаж. Конрад стал первым серьезным автором, чья репутация сочинителя приключенческих историй в экзотических декорациях позволила ему сделать ставку на кинематограф. Экранизация «Победы» с участием звезды немого кино Лона Чейни состоялась в 1919 году, а уже на следующий год в письме другу [58] Литератору Ричарду Керлу.
Конрад сообщает: «Помимо [прочего], я буду работать над сценарием по „Гаспару Руису“. Стыдно признаться, но чем-то надо жить! Сам Пинкер приедет мне помогать!!! Он до смешного скрытничает, но я думаю, что ему предложили кругленькую сумму за конрадовский сценарий. Если уж пришлось пасть так низко, то, при прочих равных, я предпочту кинематограф сцене. Кино – это всего лишь дурацкие коленца для простаков, а вот театр может скомпрометировать автора куда сильнее, поскольку способен оболгать саму душу произведения, как на изобразительном, так и на интеллектуальном уровне…» [59] The Collected Letters of Joseph Conrad, vol. 7.
Очевидно, что любых посредников между своими произведениями и читателем Конрад считал чем-то избыточным, лишним звеном, уступкой экономической необходимости. Он сам хотел проецировать движущиеся картинки перед внутренним взором зрителя. В 1897 году, когда кинематограф был еще балаганным развлечением, Конрад в предисловии к повести «Негр с „Нарцисса“» пишет: «Цель, которую я пытаюсь достичь, состоит в том, чтобы силой печатного слова заставить вас услышать, почувствовать, но прежде всего – увидеть». В этом и проявляется «модернизм» Конрада: он не рассказывает истории, подводя читателя к заранее намеченным выводам, он их живописует; причем живописует не как чтящий конвенции академист, но как верный собственным впечатлениям импрессионист. В этой точке зрения пересекаются новейшие течения живописи и литературы: жанр и сюжет уже не столь важны, главное – это авторское видение. Но молодому искусству кино до этого еще далеко, и авторское видение самого Конрада Голливуд переварить не смог: к экранизации его сценарий под названием «Силач Гаспар» не приняли. Тем не менее подход засчитан: Конрад – первый крупный европейский писатель, решивший самостоятельно адаптировать свое произведение для кино.
Неудачливый сценарист Конрад к началу 1920-х – один из самых тиражных современных писателей в англоязычном мире, на него рисуют карикатуры, журнал Time выходит с его портретом на обложке. Собираясь в турне по США, он пишет своему агенту: «Не думайте, я не стану бранить кино, напротив, я собираюсь их [американцев] умаслить. <���…> Я набросал в общих чертах план лекции или, скорее, непринужденной беседы, тезисы которой на первый взгляд могут показаться весьма экстравагантными: искусство образного письма в своей основе зиждется на тех же принципах сценического движения, что и кинематограф, с той лишь разницей, что художник – устройство куда более тонкое и сложное, чем камера, с куда более широким охватом, пусть и менее точной передачей изображения» [60] The Collected Letters of Joseph Conrad, vol. 8.
. Стремясь «умаслить» помешанных на кино американцев, Конрад выдает метафору, которую по сей день разрабатывает целое направление теории искусств, а также обозначает дистанцию между своим творчеством и его киноинтерпретаторами.
Первым, кто попытался преодолеть эту дистанцию, был Орсон Уэллс – нью-йоркский вундеркинд, скандально известный радиопостановкой «Войны миров» [61] 30 октября 1938 года инсценировка репортажа «с места событий» заставила тысячи слушателей спасаться бегством и баррикадироваться в подвалах, а репортеров – прославить начинающего режиссера и его радиотеатр «Меркури».
. На волне славы Уэллс прибывает в Голливуд, чтобы снять свой дебют – «Сердце тьмы». Он уже ставил эту вещь в своем радиотеатре и считает, что «нет на свете другого писателя, чьи произведения можно было бы буквально проецировать на экран». Это становится основой его художественного метода: все, что происходит на экране, зрители должны видеть глазами альтер эго автора – капитана Чарльза Марлоу. Чтобы покрепче навязать свое видение, до начала основного действия Уэллс помещает зрителя в клетку, где тот должен почувствовать себя канарейкой, а затем проводит его из тюремной камеры на электрический стул. Пробы зрителя на роль камеры (или наоборот) Уэллс заканчивает словами: «Это кино вы не посмотрите, вы его проживете». Если Конрад предвосхитил развитие кинематографа, то Уэллс в 1939 году ставит перед собой задачи, которые сегодня решают компьютерные шутеры. Для выполнения этих задач выдающийся оператор Грегг Толанд придумал сложные механизмы и монтажные приемы, а всю историю уложили в 165 долгих планов. Марлоу, которого камера видела только в отражении реки, должен был сыграть сам Уэллс, Куртца – тоже. Столь радикальные решения насторожили студийное начальство, кроме того, бюджет фильма грозил серьезно превысить оговоренную сумму. Картину закрыли, и Уэллсу пришлось действовать по плану Б – так появился «Гражданин Кейн».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу