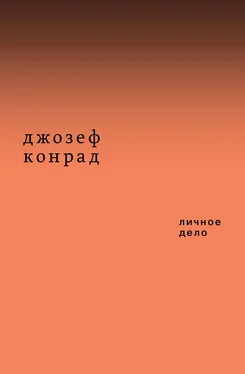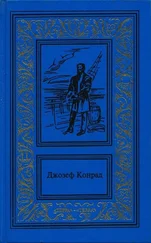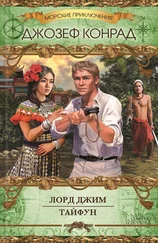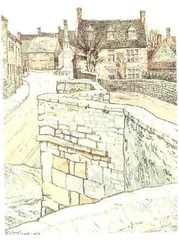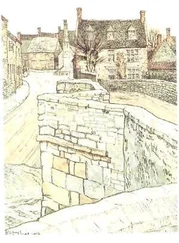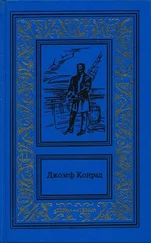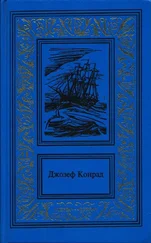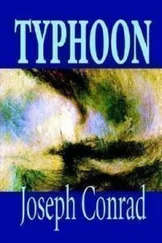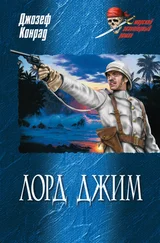С Расселом, также будущим нобелевским лауреатом, Конрад поддерживал отношения до самой смерти. А вот с Киплингом – первым из британцев, получившим эту премию еще в 1907 году, – близкого знакомства так и не свел. Их нередко сравнивали, поскольку далекие, экзотические колонии служили фоном произведений обоих авторов, но в своем отношении к идеологии колониализма они не совпадали в корне [53] Подробнее об этом см. раздел «Конрад и постколониальная теория».
. Взаимоотношения этих авторов – отдельная тема, мы же приведем отзыв Киплинга, который он дал Конраду уже после его смерти: «Когда он говорил, понять иногда его было непросто, но с пером в руке он был среди нас первым. И все же, читая его, я не могу отделаться от ощущения, что это превосходный перевод иностранного автора».
Конрад и язык
Конрад – единственный в истории классик мировой литературы, во взрослом возрасте овладевший языком, на котором написаны все его произведения. Польский был для него родным, по-французски он говорил с детства, живую английскую речь впервые услышал пятнадцатилетним школьником. Твердое намерение стать моряком привело семнадцатилетнего Йозефа Корженевского в Марсель, где он устроился на французское судно. Три года спустя выяснилось, что Йозеф не получил разрешения царского правительства на работу за границей, и бюрократия Третьей республики не смогла переварить этот казус. После не слишком удачной аферы с контрабандой оружия в охваченную гражданской войной Испанию русский подданный нашел работу в Британском торговом флоте, который никаких разрешений не требовал. Так в возрасте двадцати лет он столкнулся с необходимостью выучить еще один язык. Тот факт, что через шестнадцать лет Конрад опубликует свой дебютный роман, который войдет в канон английской литературы, может показаться невероятным. И факт этот на разные лады обсуждался современными Конраду критиками и литераторами. Восторги по этому поводу Конрада скорее раздражали: «Я всегда ощущал, что на меня смотрят как на некий феномен, – и такой взгляд едва ли можно назвать лестным, если только вы не выступаете на арене цирка». В том же предисловии к «Личному делу» он предлагает свое видение взаимоотношений с английским языком: «Это никогда не было вопросом выбора или овладевания. У меня даже мысли не было выбирать. Что касается овладевания – да, оно случилось. Но это не я, а гений языка овладел мной; гений, который, не успел я толком научиться складывать слова, захватил меня настолько, что его обороты – и в этом я убежден – отразились на моем нраве и повлияли на мою до сих пор пластичную натуру». Интересно, что описанный здесь парадокс, в котором субъект и объект «овладевания» меняются местами, предвосхитил целое направление лингвистики, изучающее связь между структурой языка, культурой и мировоззрением носителей [54] Речь идет о гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа, в общих чертах сформулированной в 1930-х годах.
.
В частных беседах о выборе в пользу наименее «родного» из языков Конрад был менее последователен, нежели в публичных высказываниях. Так, американскому скульптору Джо Дэвидсону он говорил: «Чтобы писать по-французски, его нужно знать. Английский же настолько пластичен, что если не нашел подходящего слова, то можно и придумать. А вот чтобы писать на французском, нужно быть настоящим художником, как Анатоль Франс». Своему соотечественнику философу Лютославскому еще на заре своей писательской карьеры Конрад признавался: «Я слишком ценю нашу прекрасную литературу, чтобы дополнять ее своей бессмысленной писаниной. Вот для англичан моих способностей хватает вполне: они позволяют мне зарабатывать на жизнь». Цитата вошла в корпус воспоминаний о Конраде со слов Лютославского, и это скорее похоже на оценку возможностей англоязычного литературного рынка, по сей день крупнейшего в мире, просто выраженную в лестной для поляка форме. Однако определенная раздвоенность, если не растроенность языковой и культурной идентичности Конрада не была секретом и для него самого: «В море и на земле я смотрю на мир с английской точки зрения, из чего не стоит делать вывод, что я стал англичанином. Это совсем не так. В моем случае homo duplex имеет несколько значений» [55] Homo duplex – понятие, которое ввел один из основоположников социологии Эмиль Дюркгейм, обозначает двойственную природу человека как биологического организма со свойственными ему инстинктами и желаниями с одной стороны и социального существа, включенного в общество с его моралью и правилами, с другой.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу