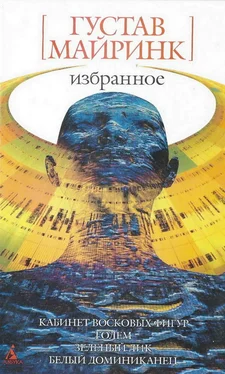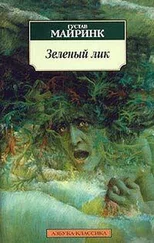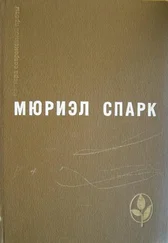Древнейший мифологический сюжет о совокуплении «злого» бога (духа) с камнем, скалой, горой и т. д. В частности, в хетто-хурритской мифологии — порождение богом Кумарби от брака со скалой каменного чудовища Улликуме для свержения небесных богов с их престолов. Каменный великан Улликуме подчеркнуто слеп и нем. Он постоянно, день от дня, растет с такой скоростью, что грозит достичь неба. Те же черты мы встречаем и в талмудических легендах о Големе, который нем и, в некоторых версиях легенды, непрерывно увеличивается в размерах. Согласно одной из легенд, некий Голем рос так быстро, что раввин, создавший его, не смог дотянуться до его рта и вовремя вытащить пентаграмму. В конце концов раввину удалось хитростью заставить Голема наклониться к нему. Он быстро вытащил пентаграмму, но чудовище, потеряв химерическую жизнь, распалось и погребло под своими обломками неудачливого каббалиста.
«Гад» — на др. — евр. означает «счастье, судьба».
Ляпондер видел в книге «Ibbur» латинскую букву А, также являвшуюся первой в латинском алфавите, как в древнееврейском буква «алеф». Ляпондер в романе символизирует путь смерти, путь абсолютизации «пагада», «големической» стороны человека.
«Се дельфийский оракул [32], глас из царства духов» (гол.).
С. 450. Дельфийский оракул. — Дельфийский храм у истока Кастальского ключа был главным центром почитания Аполлона; восседавшая на треножнике жрица Аполлона — пифия — давала предсказания, допускавшие самые широкие толкования. Оракул был известен с VIII в. до н. э.
Прошу вас, господин. Как поживаете, господин? (гол.).
Грюн (grün) — «зеленый» (нем.).
«Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает» (фр.).
«Да будет стыдно…» — девиз английского ордена Подвязки.
Ваш покорный слуга, буквально «раб» (лат.).
В сопровождении фортепьяно (гол.).
Сила воображения! (фр.).
Продажа крепких напитков (гол.).
Детское слабоумие (лат.).
Дерзость, бесстыдство (евр.).
Мудрец, ученый раввин. Здесь иронически: умник (евр.).
Сумасшедший, рёхнутый (евр.).
«О, пресвятая, мило…серднейшая, благодатная Дева Мария!» (лат.).
Цвет цветов (лат.).
Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб.: Symposium, 2002. С. 214–215.
«Проза Густава Майринка» — атрибуты этого понятия известны: эзотерическая, таинственная, загадочная, герметическая, связанная с оккультным знанием, а еще — сатирическая, гротескная, оригинальная, причудливая… Добавим: лаконичная, плотно сбитая, чуждая манерности, не снисходящая до «красивостей». Переводчику Майринка нелегко устоять перед искушением своего рода экзегезы — так и тянет кое-что «объяснить» читателю, чтобы «понятнее было». При этом густой и плотный майринковский текст обречен стать в переводе рыхлым, чтобы не сказать аморфным, да и более объемистым. Может быть, на определенном этапе постижения творчества писателя такой подход даже нужен. Однако при этом неизбежно возникает вопрос о пределах интерпретации… «Любое чтение — проверка себя на способность прислушаться к недоговоренным подсказкам, — пишет Умберто Эко, анализируя именно эту проблему. И приходит к выводу: — …Уровень знакомства с Энциклопедией, необходимый читателю (относительно потенциально безграничного объема Полной Энциклопедии, которой никто полностью не владеет), определяется самим художественным текстом… Каких-то знаний текст требует от читателя, другие он ему поставляет сам… Точный объем энциклопедии, с которой должен быть знаком читатель, остается областью догадок». [47]С образцами интерпретационного подхода читатель Майринка наверняка знаком. Но хочется, чтобы он по достоинству оценил мастерство художника слова и не рассматривал литературное творчество Майринка только как отражение исканий «мистика», «спирита», члена различных масонских лож и знатока многих и многих оккультных учений.
В этой книге представлены новые переводы рассказов Густава Майринка из сборников «Волшебный рог немецкого обывателя» (1913) и «Летучие мыши» (1916), а также романов «Зеленый лик» и «Белый Доминиканец». Переводчики стремились максимально бережно передать стилистическое своеобразие прозы Майринка (не нуждающейся ни в расширительных смысловых интерпретациях, ни в каком-либо приукрашивании), ее лексическое богатство, речевое многоголосие и не в последнюю очередь лаконичность — одну из важнейших стилевых черт, свойственных как сатирам, гротескам, страшным историям Майринка, так и его рассказам, раскрывающим сокровенные глубины человеческой души.
Читать дальше