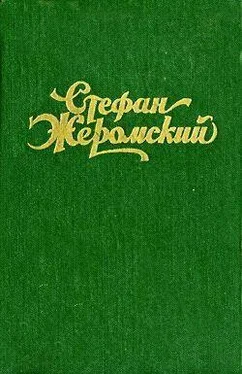Рафал слышал неровное, горячее дыхание Кшиштофа, и бездна разверзлась под его ногами, когда, объятый ужасом, он подумал, что товарищ умрет…
В мыслях он тащился по гимназической лестнице и видел на верхней площадке проректора Кубешевского и всех миносов и радамантов, [58]а главное… педелей. Капли холодного пота выступили у него на лбу при новой страшной мысли: будут сечь. Он весь сжался при этой мысли, охваченный жгучим, невыносимым, растравляющим душу чувством унижения.
Но больше всего, больше страха перед истязанием и мучениями его терзал этот далекий взгляд отца. Душа его стыла тогда, как стынет труп убитого. Напрягая всю силу воли и ума, сам себя утешая, он гнал прочь этот образ, старался стереть его, затушевать, придумывая заведомо ложные оправдания, обращаясь с тихой мольбой к кому-то, кто должен его спасти. И снова, как в горячечном бреду, неизвестно откуда, являлись видения, мысли, выводы, предчувствия.
Несмотря на то, что Рафал совсем упал духом, в глубине души, в самом ее тайнике родилось у него чувство, о котором он старался не думать. Он не хотел признаться в нем самому себе, боялся его обнаружить, опасаясь, что рассеется, отвлечется и молитвы его не дойдут до бога; лицемеря сам с собою, он втайне знал наверняка, что сам-то он радуется совершенному проступку, что душа его полна злой гордости, глубокого, здорового, молодого счастья, которое в немтрепещет, кипит, рвется наружу и громко и непочтительно хохочет. За вздохом молитвы, которую он возносил от всего сердца. как фимиам, таился громкий, захлебывающийся смех над тем, что Кшись болен, лодка плывет в Гданьск, а сапоги и мокрая одежда валяются на берегу.
В борьбе противоречивых чувств, которые были отличны друг от друга, как свет от тьмы, проходила эта бесконечная ночь. Казалось, что рассвет уже близок. Что скоро уже все разрешится. Так ли, этак ли, но скоро…
Свернувшись клубком на постели, он подогревал в себе мужество, предугадывал вопросы, готовил ответы, и в то же время пока измученная его голова была занята софистическими рассуждениями, сжимал кулаки и напрягал мышцы рук.
Невозмутимая тишина зимней ночи поглощала все эти чувства с неровными вспышками их, отливами и приливами. Но вот в ночном мраке, словно в темных небесах, раздался бой часов на колокольне. Часы пробили раз, потом другой…
Волосы встали у Рафала дыбом.
– Всего два часа… – прошептал он чуть ли не вслух.
Ему стало так страшно, как никогда в жизни. Все злые думы, все роковые замыслы, все смутные предчувствия обрушились на него, и отчаяние схватило его за горло. Он зарылся головой в подушку и думал о своем несчастье. В Тарнинах он видел однажды, как полевой сторож ловил на скошенном лугу ядовитую змею. Он видел, как развилистой березовой веткой сторож прижал к земле ее шейку, как схватил потом двумя пальцами сзади и сжал ее головку, заставив змею открыть пасть… Змея в ярости обвилась вокруг его руки. Тогда сторож концом палочки стал выдавливать яд из пузырьков под ее зубами. Рафалу вспомнилось это мгновение. Он так задрожал, точно змея обвила все его тело и обратила к нему раскрытую пасть, чтобы вонзить в его глаза свои острые зубы.
Съежившись, свернувшись клубком так, что колени доставали носа, и дрожа в лихорадке, он дремал, просыпаясь всякий раз, когда били часы. Каждый удар их чужой и суровый, чугунный голос, издаваемый предметом неодушевленным, прорезал пустоту и мрак его мыслей и каменным ядром падал на его грудь. Наконец, в бледных сумерках рассвета вырисовались стены. Скоро в доме поднялось обычное движение. Семья учителя, его многоречивая супруга, сестры и даже дочки занялись больным Кшисем. Послали за доктором. На Рафала устремились ледяные взгляды, выжигая на лбу его клеймо позора. Он и сам чувствовал себя преступником. Свою кружку горячего молока юноша выпил с такой поспешностью, что чуть было не обжег себе губы, и, не дожидаясь звонка, со связкой книжек под мышкой направился в лицей. Он поднялся по лестнице, которую видел во сне, и первый уселся в пустом классе. Все в этом классе еще вчера дышало таким весельем, а сейчас все окуталось темным флером. Высокая кафедра с деревянным балдахином, вселяя ужас, больше, чем когда-либо, давила душу своей строгостью, как исповедальня; от черных скамей веяло угрюмой тишиной гробовых плит. В класс вбежал один, другой, третий товарищ, скоро вся большая комната наполнилась шумом, говором и смехом. Рафал сидел, поглощенный своими мыслями, не отводя глаз от дверей. Как сквозь сон он видел, что товарищи его, решив подстроить каверзу «латинисту», укрепили в резьбе балдахина над кафедрой плотный снежок. Мертвая улыбка скользнула по его лицу, когда он представил себе, как снег начнет таять в тепле и капать на лысый череп-кикиморы…
Читать дальше