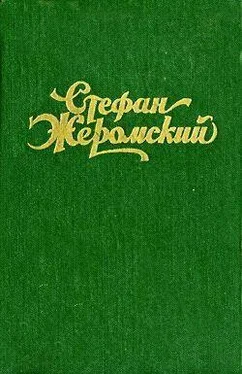Ездовые тронули лошадей. Тяжело загудели орудия. ß утренней тишине ужасающе загремели пушки, дула, вертлюги, казенники, зеленые лафеты, передки и колеса. Глухо застонала под конским копытом потрясенная земля. Словно объятые темным страхом, затрещали стволы и ветви деревьев, росших шпалерами на плотине.
Сокольницкий медленным шагом ехал поодаль от всех, в одиночестве. Перед взором его справа и слева открывались в двух низинах озеро и болота за плотиной. В ушах звучал неприятный шорох камышей. Из-под полуопущенных век спокойно глядели неподвижные глаза. На губах зазмеилась привычная едкая усмешка. Генерал закрыл глаза и предался размышлениям:
«Это я вас веду в эти гнилые места, это я вас веду… Это я вашими трупами завалю эти низины…
Приказывай, полководец! Твой подчиненный слушает. Тебя не было, полководец, в далеких боях на реке По, на реке Тибр, на реке Рейн, на итальянских озерах, в ущельях Тироля, в пропастях Швейцарии. Ты спал на пуховиках в те дни, наш полководец. Прощайте, прощайте, мои молодые годы! Ты, старый шведский окоп под Гродно, где я, молодой, напрасно связал пять тысяч фашин, сплел три тысячи кошей, две тысячи плетней… Где я служил в генеральном штабе бок о бок с Сулковским… Привет тебе, тень…»
Генерал поник головой. Рукой он оперся на луку седла. Туманится взор его, туманится голова.
«Варшава… Под Торунем, под Сохачевом, под Джевицей, под Радошицами… Одинокая долгая ночь. Тишина. И картина присяги в Ковно!
Когда же я саблей проложу тебе путь, отчизна?
Когда придешь ты, день моего могущества, начало моей посмертной славы?
О боже, смири мое сердце…
В нынешний день я жду твоего веленья, исполненного мудрости, дабы, я, как валом, защитил им братьев. Дай мне совет в самую трудную минуту. Дай мне мужество в последний час, когда солдаты разбегаются в страхе, как ватага детей.
Отврати смерть от меня. Боже, будь милостив ко мне, грешному!
Ты, который вывел меня из Оффенбаха и Бергена, спас от града пуль под Гогенлинденом, от жерла пушек в Зальцбурге, от штыков на Инне, на Аахене, ты, который спас меня под Стольпой, под Гейбурцем, во Фридландском сражении…
Ты, который укрепил мой дух в переходах через Альпы, когда один я остался непреклонным полководцем, когда все бежали, кроме Фишера, когда тысяча верных солдат шла без сапог, две тысячи полубосые, когда у половины легиона не было рубах и у двух тысяч – мундиров.
По милости твоей я сражался на этих полях…
Храни руку мою, укрепи сердце мое!
Но если, о всемогущий, на то твоя воля…
Дай мне умереть смертью Жолкевского…
Ты, который видишь в эту минуту тайныя моя…»
Вторая конная артиллерийская батарея проехала всю плотину, миновала шлюз и вышла на равнину.
Рафал дал шпору коню и поскакал из Рашина вперед, минуя за плотиной все войска. Он подъехал к командующему. Сокольницкий мельком взглянул на него и отдал приказ:
– Поезжайте в деревню Большие Фаленты, которая лежит в полуверсте за фольварком, у Надажинской дороги. Туда идет рота пехоты. Велите бабам и детям немедленно убраться из деревни. Они могут захватить с собой всю скотину. Мужиков задержите всех до единого. Чтобы мне ни один не ушел! Через час я сожгу деревню дотла. Скажите им об этом. Приказ вы должны выполнить немедленно.
Направленная в Фаленты рота гренадер в медвежьих шапках с белым кантом и красными погонами с гарусным шнурком тронулась по грязной дороге за Фалентский дворец. Она вышла из болот, поросших ольхой, и очутилась у околицы деревушки. По обе стороны старой и грязной дороги там стояло двадцать дворов, вытянувшихся в прямую линию по направлению к лесам и ближайшей деревне Ляски. В тумане виднелись деревья соседнего селения Янчевицы.
Рафал пустил поводья. Через минуту он был в центре деревни.
Разбуженные жители Фалент высыпали из своих хат. Это были все бревенчатые мазурские хижины, выбеленные известкой, с соломенными кровлями. Около двух лет фалентские крестьяне имели право «по доброй воле переселиться в пределах Княжества Варшавского туда, куда они пожелают», [555]но оставались на старом месте. Из-за плетней, из-за углов, из темных сеней они смотрели теперь на маршировавших солдат.
Ольбромский зычным голосом стал сзывать мужиков. Те подходили медленно, боязливо, неохотно.
Когда Ольбромский объявил им в самой решительной, грубой и категорической форме, что бабы и дети должны немедленно убраться из деревни, поднялось ужасное смятение, раздались стоны, плач и рыдания. У его стремени как из-под земли выросли косматые, полуодетые, грязные ведьмы, дети с нечесанными головами, гадкие, хилые старики. Все в один голос скулили:
Читать дальше