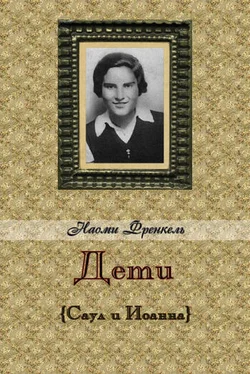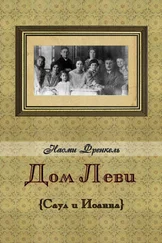– Что тебе до Эмиля Рифке? – решительным голосом спрашивает дядя.
– Отто тоже придет к тебе спросить о нем, – заикается Саул, – хотят знать всю правду об этом офицере. Кто он на самом деле: социал-демократ, нацист, коммунист? Гейнц и Эдит, несомненно...
– Никто не знает, мальчик. Никого это не интересует.
Вот и дядя неожиданно называет его «мальчиком».
– Что-то еще тебя тревожит, мальчик? – дядя откидывается на спинку стула.
– Да, да! Ты думаешь, что я пришел к тебе из-за этого офицера? Не из-за него. Из-за молодежной репатриации...
– А, хорошо, что пришел, парень. Я об этом совершенно забыл. Я уже выбрал усадьбу. – Дядя перебирает бумаги в ящике, извлекает несколько листов с отпечатанным текстом. – Надо подписать договор с организацией молодежной репатриации. Передай матери, что завтра я зайду к вам уточнить детали. Не забудь.
– Не завтра, – вскрикивает Саул, – еще один день! Один день! – Он не отрывает взгляда от букв, которые тянутся густым рядом строчек, и невозможно их сдвинуть.
– Что случилось, Саул? Что за спешка? Это лагерь для подготовки к репатриации открывается не завтра. Только весной вы будете туда направлены. Твоя кандидатура обеспечена.
– Нет! Нет! Не поеду туда! Я не хочу репатриироваться!
– Ну, ладно, парень, не хочешь. А то ты хочешь?
– Научиться профессии... плотника.
– Где?
– Здесь, в Германии, естественно.
– Где, я тебя спрашиваю?
– В Германии, я же сказал тебе.
– Если так, ищи себе место работы. Помочь в этом я тебе не смогу. Таких мест нет. Миллионы безработных, миллионы юношей болтаются без дела, а ты думаешь, что такого, как тебя, ждут с распростертыми объятиями, еврейского парня с именем Саул?
– У меня есть работа. Есть заработок. И кто побеспокоится об отце и матери, когда я уеду?
– Ты хочешь заниматься куплей-продажей, Саул? Вырасти и ничего не знать? Об отце и матери я побеспокоюсь. Езжай в Израиль, Саул, в кибуц. Подготовь дом для родителей.
– Нет! Нет! Не поеду, дядя Филипп, не поеду!
– Что случилось, Саул? Ведь ты же член Движения?
– Нет! – Саул вскакивает из кресла, и прежде чем дядя тоже встал, выскакивает из комнаты и вталкивает ноги в мокрые ботинки.
– Саул, давай поговорим. Ведь мы же вообще не поговорили.
– Нет. Не понимаешь ты меня. Никто меня не понимает.
Дверь захлопывается. Куртка в руках Саула, и он медленно надевает ее на ходу, затягивает кушак, лицо его пылает.
– Надо совершить что-то решительное! Что-то решающее!
Ему надо совершить что-то, за что его отчислят из Движения, что-то такое, что остальные не смогут стерпеть. Если он это не сделает, никогда не решится покинуть Движение, никогда не сможет сказать в подразделении: я решил уйти. Если же нарушит все правила его устава, уход его будет прост и понятен. Вот, что сейчас требуется. Мужественный поступок. И тогда он будет достоин – присоединиться к коммунистической молодежи...
Саул перепрыгивает через две ступеньки. Все, кончились колебания!
– Уже пришел? – недовольно спрашивает Изослечер, ибо всего-то заработал одну марку: Саул даже часа не был у доктора.
– Дай мне марку. Пойду к Флоре согреть душу.
– Нет! Мы идем в трактир к Карлу Миллеру, в Голубиный переулок, выпить рюмку.
– Я и ты? – застывает Изослечер с открытым ртом. – Но употребление алкоголя запрещено.
– Заткнись. Пошли.
– Что ты бежишь, Саул? Иди, как человек. Я говорю тебе, Саул, если ты выпьешь, начнешь курить и заниматься девицами, будешь не таким нервным и не станешь бежать, как ненормальный, против ветра.
– Слушай, Изослечер, вечером, в девять, сможешь меня ждать у красного фонаря? Пойдем к Эльзе.
Ветер забивает Саулу дыхание, обвевает стужей, жжет замерзшие щеки. Город угрюмо дышит зимним утром в лицо. Начинается новая вьюга.
Сутра свирепствует стужа.
В гостиной, у широких стеклянных дверей, стоит Гейнц и наблюдает за садом, охваченным вьюгой. Тяжелые полосы тумана набрасывают завесы со всех сторон, словно собираются что-то скрыть. Деревца гнутся, треща ветками.
Ранний час явно немилосердного, серого утра. Дрожь проходит по телу Гейнца. Скрывшись за складками зеленых, тяжелых бархатных портьер, он выпрямляется. Несмотря на ранний час, Гейнц готов к поездке, причесан, серый костюм сидит на нем без единой морщинки. Этой аккуратностью, упорядоченностью в одежде, выпрямленной спиной, он удивительно походит на покойного отца.
Гейнц привык вставать рано. В последние недели его одолевает бессонница. Время от времени он проводит рукой по усталым глазам, словно старается отогнать от себя картину одичавшего под ветром сада. За спиной слышатся обычные звуки просыпающегося дома. Льется вода из кранов, Фердинанд напевает под нос, попугай орет, ноги шлепают домашними туфлями по коридорам, посуда в кухне звенит, гудит электрическая кофеварка. Гремит китайский гонг. Фрида ударяет по нему со всей силы, созывая в небольшую чайную комнату на легкий завтрак. Гейнц опять выпрямляет спину, собираясь выйти из-за портьер, но возвращается и прижимает щеку к теплому бархату, продолжая смотреть на пустынный сад, словно ожидая, что снега отступят, и воздух снова станет прозрачным. А гонг все гремит и гремит. Этот симпатичный китайский гонг из тонкого позолоченного металла принесла мать. Она очень любила гулять по магазинам, искать необычные вещи. Отец сопровождал ее и выполнял любую ее, самую малую, прихоть, даже если она была в высшей степени странной. Наконец, они возвращались из этих путешествий по магазинам. У матери – темные глаза, посветлевшие от радости, отец – с кучей свертков с разными ненужными вещами. В гостиной дети ждали их, прячась в тяжелых складках портьер, или в нише за спиной статуи Фортуны, и с шумными восклицаниями неожиданно окружали мать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу