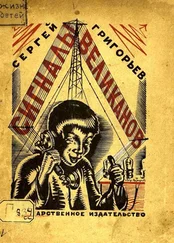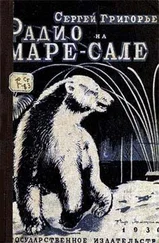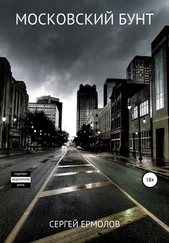Анисимыч замолчал, ожидая ответа.
— Это не мы, а зуевские, да мальчишки…
— Ну, вот опять «держи его». А зуевского кто убил? — Губернатор так вам, пожалуй, и скажет: чего на других валите? хозяйское бей, громи, а как до вашего добрались — так колом по башке?..
— Говорили, надо мирный бунт делать…
— Вот! Мужик задним умом крепок. А нам надо вперед смотреть. Значит, крепко стоять — один за всех — и все за одного. Стекол не бить. Товар не теребить, машин не портить, — а главное, ребята: вина не пить, надо погодить. Зуевских, да мужиков теперь не будет — по всем дорогам заставы поставлены не пропускать никого — теперь уж не придется нам на других валить, да кричать «держи его». Мальчиков тоже унять надо, чтобы не шалили…
— Ну, ладно, а ты губернатору — что скажешь? Всё вычитываешь, как псаломщик — да пра! — А что делать, не говоришь. Запутлял ты нас в историю, окаянный — говорила Поштеннова Дарья.
Анисимыч ударил себя по лбу рукой и, сделав расстерянную рожу, обернулся к Волкову и спросил плаксиво, тоже женским голосом:
— Вася! А? Чего мы губернатору скажем… А-а?
Ткачи засмеялись… Ткачихи закричали изо всех углов:
— Не надо с губернатором. У него с Морозовым печки-лавочки. И губернатор и прокурон — все закуплены. Царю надо бумагу послать!..
Анисимыч опять обратился к Волкову:
— Вася? А? Царю, говорят, бумагу надо послать.
— Царю! Не надо губернатора. Царю!
— Вася! А?
Волков крикнул:
— Красавицы, погодите. Гармонии у меня нет, а то бы спел с вами песню:
Разлюбил меня милёнок —
я рыдаю, как ребёнок!
Напишу царю бумагу,
а сама в могилу лягу!
Вот вы, красавицы, — песню эту составили — так думаете, что царю до всего дело: и милёнок разлюбил, так царю бумагу писать. Царю, милые, не до вас. Вы думаете, царя-то купить нельзя? Я что вам скажу. Теперь Александр Третий. А был Александр Второй. Так вот Александр-то Второй — у него уж и сын лысым был, а самому на седьмой десяток перевалило — слышьте, бабы — приглянулась ему барышня Долгорукая…
— Коли долгая рука — ей бы присучальщицей к нам в прядильню…
— Ну, у ней рука-то долгая была на другое. Александр Второй на ней женился.
— Да ну тебя, Васька — врать.
— Истинный бог, не вру. Вот и Луку спросите. Он питерский. Верно я говорю, Лука Иваныч?
Лука молча кивнул головой.
— Да. Женился, старый кобель. А у него уж внуки. И начала им эта Долгорукая вертеть, как хотела. Тут война. Ну, помните, как Грегер и компания солдат одевали: сапоги без подметок, шинель — раз надел — по швам! сколько из-за плохой одежи на Балканах в снегах, мятелях и буранах народу нашего погибло — вам известно. Мало вы, красавицы, горьких слез по мужьям, да женихам пролили. У кого из вас, мамаши, по сынам глаза не выплаканы? Ну, хотели этого «Грегер и компанию» под суд отдать. А он смеется и говорит: не то, что меня под суд, да повесить, а еще мне следует за то, что я солдатиков обувал, да одевал; десять миллионов с казны мне не додано. И что бы вы, красавицы, думали: пошел Грегер к долгой-то руке и говорит — десять процентов тебе выплачу с куша, если поможешь. Она говорит: ладно — деньги вперед. Грегер видит — рука долгая: положил миллион. Приехал к Долгорукой царь. Она его спрашивает: «Верно ли, милый, что ты Грегера хочешь под суд отдать?» — «Верно». «За что?» — «За то, что он моих солдат без сапог оставил, картонные подметки делал». — «Ну, милый мой, дорогой, сахарный, хороший — это неверно: Грегер добрый человек; он не станет нехорошо делать; всё это враги врут»; — уж вы, красавицы, знаете, чего тут она ему наговорила. Приехал от нее царь во дворец, указ, чтобы Грегера под суд, — порвал и новый написал: «Выдать Грегеру десять миллионов рублей за то, что он нашу армию в столь прекрасные сапоги обул».
Волков смолк.
— Выдали? — спросил после долгой тишины кто-то из ткачей.
— А как же: раз именной указ…
— Ну, и дела!
— А вы «напишу царю бумагу».
— Кому ж теперь жаловаться?..
— По-моему, — сказал густым басом бородатый прядильщик Сусалов, — написать надо письмо датскому королю.
— Чего это?
— А так. Датский король нашему царю тестем приходится. Так, може, наш его из уважения послушает…
Ткачи все засмеялись… Однако, все же послышались рассудительные голоса:
— Бумагу кому ни то надо написать. Бумага не поможет, — пускай знают, как мы живем.
— Как скажешь, Лука? — обратился Анисимич к Абрашенкову.
Все смотрели на Луку, в его спокойное светлое лицо. Он заговорил тихо и медленно, как будто погружался в дремоту от смертельной устали, — и когда он заговорил, все притаили дух, чтобы не проронить слова.
Читать дальше