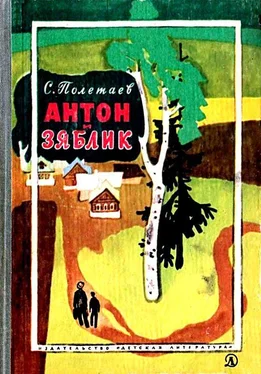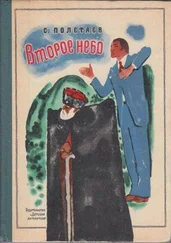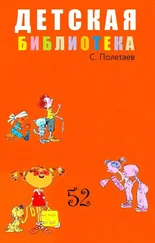- К тятьке своему побежал, - сказала одна из баб, стоявших у колодца. - Ишь рад как…
Ивка бежал, брызгая по лужам, взлетая на кочки, перемахнул ручеек, обогнул кустарник, увидел маленькую кузницу с красным огоньком, пылавшим в черном нутре ее, и только тут подумал: о ком же это бабы говорили у колодца? Кто же это к тятьке своему побежал? Он огляделся. Кроме него, Ивки, никто никуда не бежал. Значит, про него это сказали? Но ведь он бежит не к тятьке, который лежит сейчас на печке, а к Панасу. Так ничего и не понял…
Влетел Ивка в кузницу, пролез в свой всегдашний уголок за точильней, устроился там, чувствуя, как приятно защекотало в горле от привычных запахов раскаленного железа.
Панас и Илья не оглянулись на Ивку. Панас рассыпал молоточком трели по наковальне, Илья, отставив ногу, подпрыгивал, обрушиваясь молотом по лемеху. Били они усердно и ожесточенно, - наряд большой, времени мало. Все же Ивке обидным показалось, что после вчерашнего веселья Панас даже не кивнул ему, не подмигнул, как всегда, будто совсем не приметил его прихода. И радость в душе его, вызванная солнцем, птичьим гомоном и дробью от наковальни, стала меркнуть и тускнеть…
Панас и Илья поменялись местами. Илья поворачивал поковку, дробь получалась у него дряблая и нестройная, а Панас, вздыбив усы, впивался в поковку светлыми глазами и наносил ей удары, словно убивал змею. Бил он с остервенением и страшной силой, поковка плющилась и корежилась, извиваясь в предсмертных судорогах.
Ивке наскучило сидеть в углу без дела, он влез под точильню и подгреб рукой старую подкову.
- Не балуй! - крикнул Панас и прижал ее ногой.
Ивка ударился головой о перекладину, вылез из-под точильни, почесал затылок, уселся в уголочке, отвернулся к стене, расставил глаза от обиды, чтобы не уронить нависшие слезы. С наковальни прыгали искры, сердитые и опасные, как пчелы. Дым стал едким и удушливым, дышать невозможно. Кузница показалась дряхлой и промозглой - стены грязные, унылые, в них теснился тоскливый сумрак, и в этом сумраке резко выделялись хмурые, злые лица кузнеца и его подручного. Илья сбросил наземь поковку, сплюнул, снял рукавицы:
- Все! Не буду я больше хребет ломать. Пускай сам работает!
Сбросил рукавицы и Панас и достал кисет:
- Ладно, не гуркуй. Поработаем малость…
- Мне еще навоз вывезти на огород.
- Поспеешь. Никто не вывозил.
Илья облизал губы и огляделся:
- Куды ведро подевалось?
- Лариса взяла его, - сказал Панас.
- На кой шут оно ей?
- Да оно из дому, ругалась…
- Только и знает, что ругается… Ну-ка, парень, чем торчать без толку, сбегай за ведром да и воды принеси. Живенько!
В избе никого не было. С печки слетела курица и, кудахтая, забилась в дверях. Ивка осмотрел ведра, стоявшие в углу, взял то, в котором вода, и поставил в дверях. Сам не зная почему, не вышел сразу, а взобрался на скамейку и стал рассматривать раму с фотографиями. На одной из них, самой большой, были парни и девки. Вон лицо знакомое - черные брови, крупные губы, родинка на щеке. Неужели тетя Лариса? Очень уж худая на фотографии, но все же это она. А вон чубатый паренек с живыми, едкими глазами. Неужто Панас? Нет ни бороды, ни усов, только в глазах что-то знакомое. А рядом что это за тоненькая, застенчивая девушка в пестрой косынке? Да это же Ивкина мать! Ну да, она - у них в доме в альбоме есть карточка, где мать почти такая же.
Ивка услышал шаги, спрыгнул со скамейки и в дверях столкнулся с Ларисой.
- Это кто же хозяйничает тут?
Ивка подхватил ведро. Она вырвала ведро и дала ему подзатыльник.
- Ты что сюда бегаешь бесперечь? Хаты своей нет?
Ивка чуть не задохнулся от гнева. Исподлобья, бычком, глянул на Ларису и ринулся в дверь, но она схватила его за плечи и так крутанула, что он отлетел на середину избы, споткнулся, упал и ударился головой о ножку кровати.
- Ох, матушки! - испугалась Лариса, бросилась к нему и подняла с полу. - Что я с тобой, окаянная, сделала!
Судорожно прижав его к себе, к мягкому животу, она закачалась с ним по избе, как с младенцем, охая и причитая:
- И за что ты покарал меня, господи, и-и-и!..
Она плакала, обливала Ивку слезами, голосила не стесняясь, гладила и чмокала его в щеки своими толстыми губами.
- И за что мне такое наказанье, и-и-и-и!..
Ивка задыхался в ее жарких объятиях, за шиворот ему падали чужие слезы. Противно и в то же время жалко было ее, толстую, несчастную, охваченную каким-то горем. До того непонятен был этот поток причитаний, что сразу забылась боль в затылке и расхотелось реветь.
Читать дальше