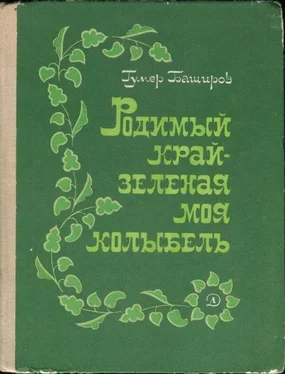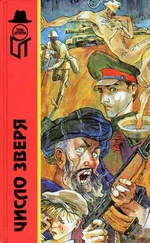Весною же, как увидишь летящих из теплых стран журавлей да гусей диких, как услышишь их вскрики в поднебесье, душа так и замирает! Тебя волнует и птичье свиристенье, и грустная тишина, что нисходит с зарею на луга и поля, и переменчивый отблеск лучей на краю неба… И вдруг в тебе пробуждается желание переложить на бумагу все, что видишь, что чувствуешь сердцем, не упустить ни одной черточки, ни одного мига. Но как?.. Не эти ли яростные порывы души, что ты не в силах передать словами, выливаются в песню, когда шагаешь по родным тропам и межам?
Ко всяческим моим мечтам прибавилась еще одна: я решил во что бы то ни стало научиться на гармошке играть. Купить не было денег, да если бы каким чудом и оказалась она у меня, все равно отец близко бы к дому ее не подпустил. Ведь и гармошка и скрипка считались дьявольской потешкой!.. Что делать? И так я помыслил и эдак, нашел все-таки выход. Вставил стекла в оконца на Минзаевом самодельном ветряке, который хоть и мал был, а все побрякивал да муку молол для хозяйства. Потом в избе у них окна побитые застеклил. Вот Минзай и позволил мне вечерами на его гармошке играть.
Только певучая та гармонь, что соловьем у него заливалась, в моих руках орала дурным голосом, точно заголодавший козленок. Минзай советовал набраться терпения.
«Поначалу у всех так получается, — говорил он. — Ты впотьмах учись. Заберись в баню, и пусть пальцы сами напев нащупывают».
Так я и делал. После долгих мучений у меня даже что-то стало получаться.
Однажды, когда я сидел у Минзая, пытаясь вытянуть что-нибудь путное из гармони, кто-то запел за околицей.
— Это Ахмет! — сказал Минзай, выходя из сарая, где он возился с очередной своей выдумкой — деревянным самокатом. И добавил: — Уходит!
Ахмет с прошлого года жил в батраках у помещика, которого у нас звали Судебным [47] Он имел какое-то отношение к уездному суду.
, и приходил, наверное, брата с сестренкой проведать.
Мы с Минзаем побежали догонять его.
Положив на плечо палку, на конце которой висел маленький узелок, Ахмет медленно шагал по проселочной дороге. Он, как всегда, был в старой холщовой рубахе, в лаптях и онучах, но на голове у него сегодня красовалась фуражка с голубым околышком, какие носят помещичьи сыновья, только блестящий козырек у нее пополам разломился. У Ахмета уже темный пушок появился над губой. Минзай, как заметил это, у себя под носом пощупал.
Мы что-то долго шли молча. Ахмет — посредине, а мы с Минзаем — по бокам.
— Позавчера хозяин дяде Ахметше по щекам надавал, — заговорил наконец Ахмет.
— Поди ты! За что?
— За то, что одна лошадь сунулась в кормушку к другой.
— Ну да! Из-за этого-то?
— Ей-богу вот! Он такой. А одного недавно по голове тюкнул. Долго, мол, ворота не открывал! Сколько дней провалялся тот, очухаться не мог. Хозяин потом дал ему чашку водки, и всё!. А вчера хозяйкино рожденье справляли, — добавил Ахмет, шмыгнув носом, — по три копейки нам дали!
Минзай взмахнул хворостиной и с яростью хлестнул по лопушиным зарослям на обочине дороги.
Послышался лай борзых. Ахмет, помрачнев, взглянул в ту сторону и сердито ударил носком лаптя по ссохшимся комкам глины. Ни ему, ни нам не хотелось расставаться.
Очень мне было жалко Ахмета. В деревне терпят муку от мачехи его брат и сестра. А самому разве легче? Собачья жизнь, если за объедки с барского стола должен от зари дотемна тянуть лямку!
Нечем было нам утешить Ахмета. Я вспомнил, что в деревне будут гулянья, и позвал его в гости.
— Сестру с братом тоже приведи, — сказал я.
— И к нам зайдешь!.. — присоединился Минзай.
— Ежели отпустят…
Мы с Минзаем повернули обратно в деревню. Но не успели отойти далеко, как услышали голос Ахмета. Он стоял на взгорке и пел, глядя на раскинувшуюся перед ним Янасалу. Не знаю, видно ли ему было нас. Может, он смотрел на утопавшую в зелени улочку, где стоял чужой теперь для него отцовский дом. Думал о братишке, болезненно бледном, большеголовом мальчугане, о маленькой ободранной сестренке с цыпками на ногах, о том, как они, обливаясь слезами, провожали его до перекрестка…
Мы до самой деревни не обмолвились ни словом.
Только дойдя до своего дома, Минзай сказал вдруг:
— Эх, малый! — и, махнув рукой, скрылся за калиткой.
В те самые дни пришлось мне пройти мимо огороженного могильного холма, что возвышался у дороги на Арск. Один каенсарский крестьянин заблудился в буран и замерз в пути. По старому обычаю, его предали земле там, где он умер.
Читать дальше