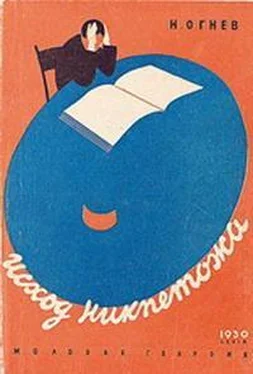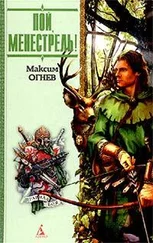— Прежде всего вонзим для храбрости, — сказал Корсунцев и подвел меня к столу. Тут же вертелась какая-то особа в очень коротком платье.
— Зизи,— говорит Корсунцев. — Я вам для первого опыта его предназначаю. — И показывает на меня.
Мы выпили по нескольку рюмок коньяку, и у меня закружилась голова, но зато взяла смелость. Я взял прямо с тарелки заливного, которое очень люблю, и начал есть. Это была рыба, поэтому косточки пришлось выплевывать на пол.
— Фу, как вы неаппетитно едите, — говорит Зизи. — Нужно на тарелку косточки! класть.
— Ничего, сойдет. — ответил я. — Это все условные формальности жизни. Я вот ничего не жрал четыре дня, а вы — на тарелку...
— Зачем вы так грубо выражаетесь? — спрашивает Зизи. — Это вульгарно, ведь, можно же сказать: не ел?
— По существу от этого ничего не изменится. Идем, что ли, танцовать?!...
Она, ни слова не говоря, положила мне руку на плечо. Граммофон играл то самое, и я сначала начал попадать в такт, но потом у меня закружилась голова и я чуть не повалил эту самую Зизи на пол. Хотя я по совету Корсунцева старался держаться уверенно, однако на остальных не смотрел, потому что было все так же неловко, как в передней.
— Пойдемте со мной, — сказала другая особа в коротком платье; я пошел, но сразу же отдавил ей ногу.
— Ай, — закричала она. — Осторожней вы, у меня мозоль!
— Разве могут у прекрасных дам быть мозоли? — сострил я. — Кроме того, не подставляйте ноги...
— Значит, это я подставила ногу? Хорош! — сказала она и ушла. Я с тоской сел в угол (подойти один к столу я не хотел) и смотрел, как они все старательно выделывают, точно пол натирают.
— Вот глупо-то, вот глупо... — проносилось у меня в голове.
— Почему вы не танцуете, Костя? — спросила меня еще одна, подсев рядом со мной. Я удивился, откуда она знает, как меня зовут, потом догадался, что это сказал Корсунцев.
— Потому что глупое и контрреволюционное занятие, — ответил я.
— Контрреволюционное? Как же это? — вытаращила она глаза. — Тут нет ничего против советской власти. Многие коммунисты танцуют фокстрот.
— Ну, значит они липовые коммунисты, — со злостью сказал я. — Это безобразие надо прикончить.
Должно быть, я сказал это очень громко, потому что фокстрот сразу кончился и даже граммофон замолчал. Все столпились вокруг меня.
— Что же это ты, Рябчик? — спросил Корсунцев.— Из пушек по воробьям нацелился. Или тебе коньяк в голову ударил?
— Вы, значит, верите в коммунизм? — спрашивает вдруг первая из этих в коротких юбках, Зизи.
— Тут спрашивать даже нечего, — ответил я и встал. — Я — комсомолец и вузовец.
— Ну, хорошо; в таком случае — знайте, что я верю в бога и в фокстрот! — крикнула она. — И никто — слышите— никто! — запретить мне не может. Слышите, господин комсомолец?
— Очень хорошо слышу, — сказал я, и голова перестала кружиться. — И очень понимаю, что мне здесь места нет. Ha-те вам вашу колбасу!
С этими словами я вытащил куски колбасы из кармана и швырнул их на стол.
— Это еще что? — крикнула Зизи. — Колбасу ворует?
— Фу, какя чушь,— вмешался Корсунцев. — Я сейчас его уведу. Не волнуйтесь, барышни, это у него от коньяка и с голодухи.
Не помню уж, как мы вышли на улицу. Вспоминаются отрывки, как меня отчитывал Корсунцев:
— ...Ты забыл целевую установку. Ты зачем пришел: поесть? Ну, и ел бы до отвала! А то на поди: развел целую антимонию, не понимаю, как ты Маркса цитировать не начал! Встречаются люди, хотят повеселиться по-своему, а ты приходишь поесть — и бузишь! Стыд, конечно, пережиток, но ты пойми, что в другой раз тебя нельзя будет привести, хотя бы для жратвы.
— Я и сам не пойду.
— Балда! Жрать-то — надо?
— Слушай-ка, Никс, — пришло мне почему-то в голову спросить его. — А как ты уговариваешь этих... когда тебе нужно иметь с кем-нибудь из них сношение?
— Вот дурак-то! — воскликнул Корсунцев: насколько я мог заметить, коньяк и на него подействовал. — Что за вопрос? — Он засмеялся. — Тебе и невдомек, что тут мильон подходов. А главное, что нужно иметь в виду. — это философия.
— При чем тут философия?
— Философское обоснование. Нужно все время помнить такую формулу в отношении к женщинам: — «Мне ничего не стоит, а ей удовольствие». Во, — и больше ничего! Стоя обеими ногами на этой формуле, добьешься всего.. Только вот что, и совершенно серьезно: я тебя очень прошу, не называй меня в вузе Никсом. Никс я только у Пепеляевых.
— Перекрашиваешься, значит?
— To-есть, как перекрашиваюсь? — переспросил Корсунцев тревожно. — Нет, неудобно же в вузе, где меня все знают, как оратора и активного работника, именоваться фокстротной кличкой.
Читать дальше