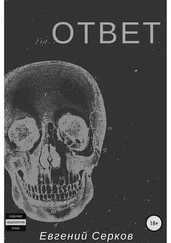Когда наш строй идёт мимо оркестра, я нарушаю приказ начальства — не смотрю в затылок переднего «бойца», а смотрю на трубы, на сильно надутые щёки музыкантов, покрасневших от напряжения. Мне хочется разгадать секрет: на что жалуется большая труба, которая обвилась калачиком вокруг туловища поседевшего уже трубача, и чем её утешают трубы — дети.
— Сырцов, стать в строй! — вдруг развеял мои грёзы резкий старшинский голос. — Ты что — заснул?
А я и сам не заметил, как потерял равнение и оказался шага на два сбоку от строя, а за мной пошли и остальные. Строй остановили.
Подполковник так и знал — снова Сырцов. Долго ещё я буду испытывать его терпение? Чего я глазами моргаю? Ах, задумался! Мыслитель нашёлся. Мечты в строю — самая вредная вещь, их нужно выбросить из головы, тут нужны только уши, чтобы слушать командира и барабан, если он есть. Человек, способный парить в облаках даже под команду «левой-левой», может забрести в тёмный лес, даже не заметив, и тёпленьким попасть в лапы врагу. На батарею будут идти вражеские танки, а такой мечтатель, как я, будет считать на вербе груши, пока на него не наедут. На фронте был такой случай, так раззява-командир пошёл под трибунал. Но против лунатиков у нашего комбата есть средство. Правда, пока что он его не применит, но терпение уже на пределе прочности. Когда оно лопнет, все лунатики пойдут читать вывески, но уже не в стенах училища. Особенно это касается закоренелых и неисправимых.
А я, видимо, такой и есть, ведь, вместо того чтобы подумать о своём поведении, через минуту-другую уже забыл про вывески, про всю эту мораль. Когда объявили перерыв, я с наиболее любопытными хлопцами пошёл к оркестрантам, которые, положив трубы на траву, перекуривали. Здесь я и услышал, что марш, который так разбередил мне душу, называется «Прощание славянки». А Лёва похвастался, что он и слова знает. Его отец как будто тоже трубач и брал в своем Могилёве Лёву на репетиции и на различные городские праздники, где надо было играть на трубах.
Вечером, в свободный час, я прилип к Лёве словно слепой к забору и не отставал от него, пока он не переписал по памяти мне всю «Славянку». А ещё я узнал, что марш этот очень старинный, его играли ещё тогда, когда славные полки России ходили в поход освобождать болгар от турок, потому что болгары — тоже славяне, как и мы. А может, Лёва тут что-нибудь и напутал? Но всё это мне очень понравилось.
Сейчас каждый раз, когда нас выводят на строевую подготовку и когда оркестр играет «Прощание славянки», я всегда ему мысленно подпеваю и мне легче идётся.
— Тру-у, тру-ру-ру, — начинает басовитая труба, а я вслед за ней:
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай…
И тут к нам с басовитой трубой присоединяются остальные голосистые трубы:
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай.
И я представляю себе легендарных солдат, удалых командиров, а не таких, как наш Грызь-Асташевский, я слышу поступь полков России и вижу, как неподалеку от дороги стоят мои односельчане, а среди них — одна славянка. Катей зовут. А вместе с полками России иду и я. Мне жаль Катю, которая машет платком вслед, жалко и самого себя. И тут трубы чуть не плачут:
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.
Это же и я могу не прийти назад. А славянка всё будет ждать и ждать. Мне бы очень хотелось, чтобы ждала. Хотя, чего доброго, может ей и другой какой славянин может найтись вместо меня. Костик Скок, например, или тот же Петька Чижик. Тут, видимо, надо что-то делать, хоть письмо написать. Некоторые же хлопцы из нашей батареи пишут. А то откуда она будет знать, что меня нужно ждать? Я же ничего ей об этом не говорил, так как такое сказать не сразу решишься. Да и сама она тоже мне говорила.
Такая же мысль созрела и у Саньки. Вечером, в свободный час, он, несмотря на субординацию, подошёл ко мне сам и сказал:
— Пойдём домой напишем, чтобы не грустили, мне конверты каптенармус дал.
Письмо отцу я написал быстро. Отцу ясно что писать: приняли, обмундировали, кормят хорошо, у начальства я в почёте. Написал, что его ботинки товарищ каптенармус не выбросил, а бережёт в своей каптёрке и обещал мне отдать, когда будут нас пускать в увольнение. Не забыл упомянуть, что выдали мне две простыни, теперь я на одной сплю, а другой накрываюсь. Затем передал привет бабушке, Глыжке, всем близким и знакомым — вот и всё письмо.
Кате письмо не писалось. Не находится таких слов, как мне хочется. А мне хочется, чтобы она знала, что я её не забываю, часто о ней думаю, что я хочу с ней дружить, что неплохо было бы и фотокарточку её иметь. У нашего Генацвале есть карточка девушки, так и я же не хуже его. Пусть бы и у меня была. А в то же время хочется мне перед Катей и фасон выдержать, чтобы слишком нежно не получилось, а то ещё представит себе, что на ней мир клином сошёлся.
Читать дальше