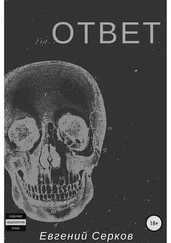— Надар — говорю тебе по-русски. Грузия. Слышал — нет?
Наконец дверь каптёрки открылась, и старшина не пригласил нас в неё, а вынес два изрядно таких наполненных чем-то мешка. Один из них он всучил мне, другой — Лёве, и мы все четверо пошли табуном вслед за ним на улицу. Тут каптенармус взял нас в шоры, сразу дал понять, что мы уже на военной службе, а тут компания больше двух табуном не ходит, а ходит строем. Поэтому он и поставил нас в колонну по одному, и мы бодро зашагали невесть куда, оттаптывая друг другу пятки. Правда, наш командир подсказывал, какую за какой ногу нужно ставить на землю:
— Левой, левой!
Но это мало помогало, и всё равно мы долго ещё путались в двух своих ногах: кто — левой, а кто — правой. За казармой нам встретился такой же строй.
— Ну и гвардейцы у нас с тобой, — сказал чужой старшина нашему, а наш его обнадёжил:
— Ничего — обчешутся.
— Вы им командуйте: сено-солома! — посоветовали старшинам двое воспитанников-старшеклассников. — Они же не понимают, где левая нога, где правая!
И весело расхохотались нашей «колонне» вдогонку. Но в конце марша мы пошли уже в лад. А заканчивался он возле приземистого кирпичного здания — возле бани.
Обработка была не абы-какая — санитарная. Началась она с того, что старшины взяли машинки и за пять минут оболванили всем головы, хотя шаром покати. При этом наш добродушно посмеивался:
— Говорят, у них диверсантов нет. Да они тут строем ходят, аж тропы повытоптывали!
Все мы покорно шли под машинку, только наш грузин спохватился напоследок, когда посмотрелся в осколок затуманенного зеркала, прикреплённого на стене.
— Вай-вай! — воскликнул он. — Как мама узнает, а?
А я, взглянув в то стёклышко, ничего не сказал, а только подумал: прощайте, танцы в парадном мундире, на полгода, не меньше. Не голова — кавун, и уши выросли.
С нашей одеждой расправились ещё хуже, чем с чубами. Старшина приказал сбросить с себя всё до нитки в большой фанерный ящик, а затем позвал деда-кочегара и кивнул пальцем:
— В печь!
Я обрадовался: наконец обмундируют, не поведёт же он нас отсюда в чём мать родила. Чего мне было только жаль, так это отцовских солдатских ботинок. К моему удивлению, пожалел их и каптенармус.
— Чьи? — спросил он и, связав парой, сунул в них бумажку с моей фамилией. Видимо, отдаст обратно.
Из старшинских рук мы попали в руки дяди в белом халате. Это был санитар. Он достригал то, чего не выстригли старшины — пушок, у кого он уже вырос под мышками и ещё где-нибудь, — и тут же помазком пачкал выстриженные места действительно чем-то таким вонючим, что карболка против него — одеколон. Было мерзко и стыдно. Но что тут поделаешь? Терпи казак — атаманом будешь.
И вот стоим мы все перед старшинами стриженые, вислоухие, голенькие, покорные, конфузимся, что на таких на нас смотрят чужие люди. А санитар так ещё и подъегоривает: нам, мол, не в военное училище, а прямым ходом — в медицинское. Особенно, по его мнению, пригодился бы я. Там меня медики с руками оторвали бы для своей науки. На мне всё видно: и мослы, и позвонки, и рёбра.
Как кому, а мне эти шутки не понравились. Умник большой. Пусть бы сам на постной картошке с огурцами посидел, тогда я увидел бы, какое он брюхо наел бы. Спасибо, каптенармус Хомутов за меня заступился.
— Не городи ты абы-чего, а если говоришь, то откусывай, — осадил он «медика».
Последний раз до этого дня я мылся в бане ещё до войны. Хорошая тогда в колхозе была баня, большая, целая изба с простенком. Стояла она на берегу нашего ручья, перегороженного в том месте насыпью, чтобы было куда распаренным докрасна мужикам нырнуть. А пару было в парилке — за один шаг человека не видно, хоть «ау» кричи. Однажды я пошёл с отцом париться, так мне чужой дядька по недосмотру голову помыл и спину рогожей потёр, думая, что моет своего хлопца. Вот сколько было там пару! Нам, сорванцам, аж муторно делалось. Но в начале войны баня сгорела.
Только вы не подумайте, что всю войну и два года после неё я жил немытым. Летом в озере купался, натираясь илом — один чёрт, что и мыло, только не пенится. А зимой иной раз, когда уж совсем от «диверсантов» спасения не было, — в корыте без ила, зато вода с золой — щёлок. Правда, в корыте не поныряешь, но можно было жить. Все так жили и живут пока что в Подлюбичах.
А тут я в городской бане, в кирпичной. Зашёл туда, где моются — ну и гомон! А воды — наливай сколько хочешь, она разная из кранов течёт: и кипяток, и такая, словно из колодца — лёд льдом. Более того — под потолком у стены два сита железные, и оттуда вода ливнем льётся, только покрути вертушки на трубе. Вот это роскошь — свет не видел! А тут ещё каждому дали по брусочку настоящего хозяйственного мыла величиной с спичечный коробок, которых накроил каптенармус ниткой из большого бруса — не мытьё, а праздник.
Читать дальше