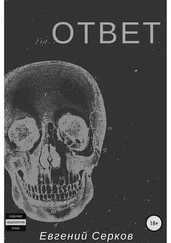Ароматным мылом, что дал каптенармус, пока что мыться не буду, хватит мне и того обмылка, который сберёг в бане и украдкой спрятал в своей тумбочке. А целый брусок отнесу бабушке, она за свой век, видимо, такого не видела. Вот пусть помнит мою доброту. А может, отцу отдать? Ему тоже нет уже с чего пену на бороду пускать, когда бреется. Нет — отцу, если мне ещё дадут.
Пожалуй, сейчас у Скоковой завалинке самые танцы. Вот бы туда заявиться таким, каким я сейчас есть, вот рты разинули бы! Рыжая Тыква прикусила бы язык со своими частушками, а то раскаркалась: мой милёнок — лейтенант. Только с этим нужно подождать, пускай на кавуне отрастут хоть те три сантиметра, которые нам будет позволено иметь, как и старшекурсникам.
И так меня одолели разные мысли и мечты, что я не услышал, как к кровати подошёл старшина.
— Где ваша простыня? — затормошил он меня за плечо.
Это было так врасплох, что я подхватился, словно на пожар, и первое, что подумал — украли, казённую простыню украли. Только как они сумели из-под меня? Быстренько глянул — на месте, не украдена.
— Так вот же она! — аж улыбнулся я от радости.
И старшина рассмеялся приглушённым смехом: после отбоя вслух нельзя. По его мнению, сукин я кот, темнота беспросветная. В каком лесу я вырос, что накрыться не умею? Казарма тоже тихонько захихикала, но старшина цыкнул — притихла. Он накрыл меня сам сначала той простыней, что была лишняя, а затем уже одеялом. А догадался он, что я неправильно накрылся, очень просто — тут порядок такой: край верхней простыни нужно заворачивать на одеяло, чтобы то не мусолилась от потной шеи. И спать обязательно на правом боку, чтобы сердцу было свободно. Век не подумал бы, что моему сердцу не всё равно.
Каптенармус Хомутов на цыпочках пошёл дальше, где-то там ещё кого-то шёпотом потревожил. Вот теперь я понял, что за чин — каптенармус. Генералиссимус — главный сверху, а каптенармус — снизу. Недаром в их звании заканчиваются на это самое «мус». Только у них, а больше — ни у кого, подумал я, засыпая.
От отца я неоднократно слышу, что солдат спит, а служба идёт. Первой моей военной ночью служба шла хорошо — до утра и на другую сторону не перевернулся и ни одного сна не увидел. Проснулся я потому, что кто-то что-то закричал словно резаный, проснулся и ничего не понимаю: где я и кто я — нет печи, нет дома, нет отца с бабушкой, и Глыжки не видно. А вокруг, словно встревоженный муравейник, суетятся хлопцы: кто хватает штаны, кто гимнастёрку натягивает на плечи, кто обувает уже и ботинок. Шум, гам, тарарам. Куда они так, не на пожар ли? Тут и меня само собой подбросило из постели: да я же — военнослужащий, вот кто я! И на меня не иначе пчёлы напали, так я начал кидаться, чтобы не отстать от всех. А оно, если очень спешишь, всегда что-нибудь да не так: в штаны вскочил правильно, а гимнастерку чёрт на меня напялил задом наперёд. Пока её снял да снова надел — обуваться некогда, в казарме пустеет. Носки — в карман, ботинки — на босую ногу и опрометью — на улицу уже самый последний. А куда и чего, сам не знаю.
Строй уже стоит, выравнивается, тихонько перешёптывается, а перед ним сам подполковник Асташевский молча раскачивается то на носках, то на каблуках, недовольно пошмыгивает носом, с нетерпением поглядывая на часы. А тут ещё и я из казармы выскочил словно Филипп из гороха. Вроде цыплёнка, что опоздал под наседку, а потом с писком бегает вокруг неё и не может забраться под спасительное крыло, так и я под строгим взглядом офицера не могу себе найти место в строю, куда ни соберусь — стена. Так мне и не удалось спрятаться за чужие спины, подполковник остановил мою беготню.
— Станьте здесь! — показал он мне пальцем место не в строю, а перед строем.
И я стал с чувством обречённого на смертную казнь. Это же, пожалуй, самое малое, что мне будет — прикажет всё что на мне сдать и отправить самого обратно домой по шпалам как миленького. Пускай бы что хотел делал, только не это. Я кляну сам себя последними проклятиями и вместе с собой тот матрас, на котором так сладко спится. Вот это начал службу — нечего сказать, молодец. Будет чем дома похвастаться.
А перед строем стыдно: сто пар глаз на меня глядят, и все чужие, кроме Санькиных; и смотрят эти глаза по-разному: какие с состраданием, какие с простым любопытством, а некоторые и с насмешкой.
Но, как говорят, из большого грома — малый дождь. Подполковник заговорил не столько сурово, как насмешливо:
Читать дальше