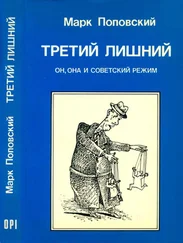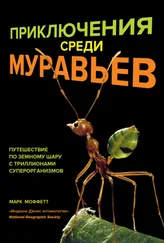В пору, когда поездка из Ташкента в Москву занимала недели, а все продовольствие на дорогу приходилось возить в заплечном мешке, не очень-то легко было «делаться географом». Но, приняв решение, Николай Иванович не имел обыкновения отступать. Он отправляет экспедицию на берега Ледовитого океана: на Канином Носу его сотрудники ищут дикий ранний клевер. Другая группа послана в Карелию, третья - в Монголию. Конечно, Монголия - только окраина южно-китайского очага культурных растений. Но в Китай пока не добраться. Более доступен Афганистан, первая страна, вступившая с РСФСР в дипломатические отношения.
Афганистан он оставил для себя, хотя путь за Памир, как уже хорошо знал Николай Иванович, не усыпан для путешественника розами. «Иностранец, которому случится попасть в Афганистан, будет под особым покровительством неба, если он выйдет оттуда здоровым, невредимым, с головой на плечах», - предупреждал в своих мемуарах английский путешественник Феррье, объехавший страну в середине XIX столетия. Путеводители предостерегают, карты запугивают, и тем не менее Вавилов настойчиво стучится во все учреждения, от которых может зависеть экспедиция. Времена как будто переменились: с 1919 года в Кабуле - суверенное афганское правительство, а на окраине столицы появилось здание с алым полотнищем на флагштоке - Полномочное представительство РСФСР. Что может помешать мирным намерениям советского ботаника? Но силы, препятствующие любому русскому проникновению за Памир, еще действуют. Борьба за право въезда на территорию Афганистана потребовала восемнадцати месяцев.
Молодой тбилисский профессор Петр Михайлович Жуковский, с которым в 1922 году начал переписываться Вавилов, называл страстное, неудержимое стремление Николая Ивановича в Афганистан «афганотропизмом». Слово «тропизм», означающее в науке неодолимое биологическое тяготение организма к чему-нибудь, пожалуй, точнее всех других терминов объясняет душевное состояние петроградского ботаника между началом 1923 года и серединой 1924-го. Вавиловские письма в эти месяцы подобны температурному графику лихорадящего больного: взлеты мечты, ущелья разочарований и снова горные пики надежды. «Поездка в Афганистан становится вероятной в нынешнем же году…» - пишет он в апреле Г. С. Зайцеву. И вскоре затем П. П. Подъяпольскому: «Усердно изучаю персидский язык, на котором говорит начальство в Афганистане. Хочу читать и писать», В июне становится известно, что экспедиция отложена по политическим мотивам. Однако «афгапотропизм» не слабеет: в будущем году ученый решил непременно осуществить задуманную экспедицию. «Финансов пока нет, может быть, даже их совсем не будет, - пишет Вавилов глубокой осенью 1923 года, - придется распродать часть книг, часть оптики и хотя бы пешим отправиться в Афганистан». Можно не сомневаться, он не задумываясь распродал бы личную библиотеку, фотоаппараты и микроскопы, чтобы добраться в страну, где лежит окончательное подтверждение его теории центров.
Вавилов-дипломат энергично ищет возможности помочь Вавилову-ученому. «Подготовляем презент эмиру афганскому для передачи через посла: хорошую коллекцию главных сортов хлебов, возделываемых в России. Хоть нас не пустят, но все-таки мы ее преподнесем. Пусть не думают, что мы хотим оккупировать Афганистан». Дипломатический подарок, очевидно, не сыграл сколько-нибудь значительной роли в судьбе экспедиции. Вмешались непредвиденные и куда более мощные силы. Отношения между РСФСР и Афганистаном улучшились.
Вавилов ничего не знал о неожиданной перемене политической ситуации. Он готовился ехать в Ташкент и с грустью сообщал Г. С. Зайцеву о том, что опять получил отказ, и теперь, видимо, окончательный. Впрочем, верный своему принципу не опускать руки ни при каких обстоятельствах, он готовился предпринять другую, столь же необходимую поездку. «Если не Афганистан, то займемся Туркестаном. Намечаем небольшой маршрут по неисследованным районам, перерабатываем, как раз маршрут вместе с Букиничем, который сейчас в Петрограде». Но то были уже последние неприятные переживания. Девятого июля 1924 года в Ташкенте трое русских исследователей - профессор Н. И. Вавилов, инженер-агроном Д. Д. Бу-кинич и посланный Сахаротрестом агроном-селекционер В. Н. Лебедев получили заграничные паспорта.
…Вот и Кушка - последний клочок родины. Пограничный мост. Прощальное рукопожатие красноармейцев в буденовках. Караван шатает навстречу глиняным домикам афганского пограничного поста. Звучит гортанный рожок: незнакомый военный сигнал. Впереди выстроились солдаты в непривычной для глаза форме. Привстав на стременах, сдерживая волнение, Вавилов оглядывает пыльные, залитые азиатским солнцем холмы.
Читать дальше


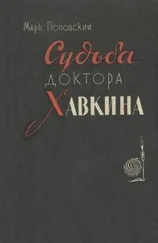
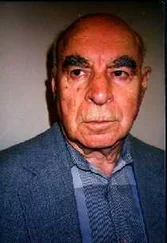
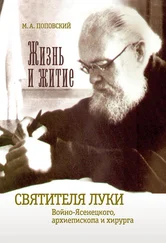
![Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/432316/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros-thumb.webp)