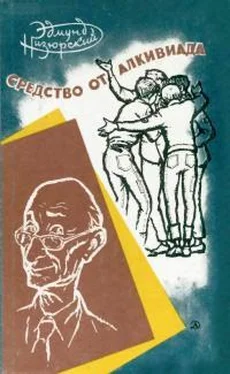Теперь все это встало перед моими глазами. И я уже знал, о чем мне трепаться. И что по самым бедным подсчетам на эту тему я могу рассуждать два часа. Лишь бы не подвело меня вдохновение, а я уж им задам перцу! Отобью у них охоту зондировать Восьмой Легион! Кончится это представление! У меня есть средство! Я сумею ошеломить и Дира, и этих гостей. Я заговорю их насмерть. Покончат они наконец с вопросами и разбегутся по домам. И я начал свою большую речь.
- Коллеги простят мне эту затянувшуюся паузу, - сказал я. - Это было не оттого, что я зазевался, а причиной этому было, если можно так выразиться, прозрение. Внезапно перед моими глазами предстала историческая сцена. Я увидел старую ратушу. Когда-то она стояла здесь посреди рынка. Из ратуши выходит одетый в черное человек с длинным и печальным лицом. Это и есть Декерт, бургомистр Варшавы. За ним с достоинством шагают представители других городов, они тоже в траурном наряде. Они усаживаются в кареты, конечно, черные и запряженные карими или, иными словами, черными лошадьми. Слово это тюркского происхождения. Прошу дорогих коллег сравнить с пустыней Кара-Кум, название это означает «черные пески», а также вспомнить прозвище великого визиря, Кара Мустафы, или иначе Черного Мустафы, и вам станет ясным происхождение этого слова.
Поразив Дира своими лингвистическими познаниями, я шпарил дальше:
- Но вернемтесь к нашей Черной Процессии. Так вот, все эти печальные государственные мужи были в трауре. По ком же они надели этот траур? Они надели его по судьбе городов, мои дорогие коллеги. А куда направляется эта процессия? Эта процессия направляется к Замку, где заседает Четырехлетний сейм, чтобы представить свои жалобы, требования и вполне справедливые' претензии.
Тут я принялся говорить о том, как города утратили свое былое величие, как жадная шляхта отобрала у них права, как пришла в упадок торговля - а все это из-за того, что государственный организм был поражен тяжелой болезнью. Болезнь эта началась уже очень давно - я перечислил ее первые симптомы - и, никем не лечимая, привела королевство к полному параличу во времена Саксонской династии.
Я проговорил так целых пятнадцать минут, пока наконец не заметил, как одна очень толстая девчонка зевнула. Следовательно, все идет как надо. Немного передохнув, чтобы нагнать еще большую скуку, я принялся распространяться по поводу этих болезней государства. Я сравнивал ее с соседними, развернув целую историческую панораму. Могучие враги с сильной централизованной властью, с огромными армиями, а между ними беспомощный колосс - Польша. О плохих законах говорил я, о магнатах, о темной и продажной шляхте, о забияках и самодурах, которые не давали денег ни на армию, ни на школы. Потом я прицепился к крестьянской доле. Вы сами знаете, что на тему о крестьянской доле можно говорить без конца. До самой пани Конопницкой дошел я, и только это спугнуло меня - зашел-то я слишком далеко и меня могут преждевременно прервать. Бросив крестьянскую долю, я принялся оплакивать теперь уже долю королевскую. Что за бедняжка был этот польский король, которого только на портретах расписывали, но никто не уважал его. Я и упомянул о его бессилии.
Говорил я и о прогнившем государственном аппарате. А поскольку гнили этой было много, вот я и развернул картину пошире. А когда и это мне надоело, я опять вернулся к Декерту. Как Декерт этот боролся за возрождение страны в коллонтаевской кузнице. Я выразил огорчение по поводу того, что города пришли в такой глубокий упадок, а потом высказал предположение, что если бы города эти были более сильными, то, может, и у нас была бы такая же революция, как во Франции, и не пришлось бы тогда упрашивать шляхетских делегатов и короля в Замке. И как бургомистров называли якобинцами.
Ученики из Элка нетерпеливо поглядывали по сторонам и переступали с ноги на ногу, а один рациональный товарищ уселся на тротуаре, достал булку с зельцем и принялся закусывать. Бедный преподаватель, их опекун, время от времени с надеждой поглядывал на Алкивиада. Однако Алкивиад, покончив с осмотром голубей на доме Барычков, теперь был поглощен наблюдением за голубями на крыше дома Фукеров. Несчастный педагог поглядывал теперь на Дира, но с нашим Диром творилось что-то странное. Он стоял как вкопанный, точно магическая сила обратила его в статую. Мои вдохновенные слова наверняка звучали для него как дивная музыка, и он не знал, чем ему больше восхищаться: широтою ли моих исторических горизонтов, поразительными выводами или плавностью моей речи.
Читать дальше