— Ну, что ж, — заметил Николай, выйдя с отцом из канцелярии, — приедем на следующий год. Может быть, будут свободные вакансии.
Неудачи не смущали Николая. Еще несколько раз приезжал он с отцом в Киев. В канцелярии школы их уже знали и подсмеивались над ними. Но Николаю удалось добиться своего. Экзамены он сдал блестяще, и школьное начальство согласилось принять его в счет десятипроцентной нормы, установленной для солдатских детей.
Летом, вернувшись на каникулы домой в форме с погонами, Николай поразил своих сверстников. Казарменный режим военно-фельдшерской школы наложил на него свою тяжелую печать. В шестнадцать лет он был уже совсем взрослый человек. Над верхней, резко очерченной губой чуть-чуть пробивались темные усики, в больших серых глазах, смотревших на людей пристально, чувствовалась недюжинная воля. Видно было, что в школе он научился сдерживать себя. Движения у него были резкие, энергичные. Говорил он мало, осторожно, обдумывая каждое слово.
Дома Николай по-прежнему бывал редко. Часто он бродил на озерах уже с настоящим ружьем. Скрываясь от стражи, охранявшей помещичьи угодья, он иной раз часами просиживал в зарослях камыша, по пояс в тине. Но ни разу сторожам не удалось поймать его. Он ухитрялся под самым носом у них ловить бреднем рыбу.
Рыбалка опять сблизила Николая с Митей Хвощем. Однако, и теперь, хотя давно уже не играли в войну, ссорились они частенько. Скрипач Хвощ успел уже пристраститься к водочке. Иногда он приносил ее на рыбалку.
— Эх ты, пьяница горький, — говорил Николай, выражая крайнее презрение.
— Красная девица, — с таким же презрением отвечал Хвощ.
Больше общего оказалось у Николая с есаулами бывшего его отряда — Ваней и Тимой Кваско. Они без конца могли сидеть, затаив дыхание, и слушать декламацию Николая. Пораженные его памятью, они спрашивали:
— Сколько часов ты можешь говорить стихами?
— Хоть весь вечер.
— Врешь! — в восторге кричали они.
И Николай читал наизусть «Евгения Онегина».
— Жарь теперь «Гайдамаков», — требовали бывшие есаулы.
И Николай уже охрипшим голосом, но с горящими глазами читал «Гайдамаков». Это была его любимая поэма.
Появились у Николая и новые друзья. Особенно он сблизился теперь с Казей Табельчуком, который приходился ему дядей, но был не намного старше его. Казя Табельчук славился в Сновске как живописец. Все свободное время он посвящал рисованию сновских пейзажей. Чаще всего он рисовал их по памяти, дома, когда собирались друзья. Николай декламировал или читал что-нибудь вслух, а Казя рисовал. Иногда пейзаж у него получался фантастический, но друзья всегда узнавали на картине знакомые места — берег реки или озера, опушку сновского бора или березовую рощу. С натуры он почти не рисовал, потому что не любил работать в уединении.
Однажды Казя Табельчук предложил Николаю пойти вечером к немцу Шульцу. Это был булочник и колбасник, славившийся в Сновске своими изделиями. В детстве Николай не раз лакомился у него горячими розанчиками.
Около заведения Шульца всегда стоял какой-нибудь карапуз.
— Дядя Шульц, дай розанчик, — пищал он до тех пор, пока в окне не появлялась маленькая фигурка немца в белом колпаке.
Угрожающе размахивая скалкой, Шульц кричал:
— Пшел вон! Я вот буду сейчас розанчик вам давать, молодой человек!
Но сердце у Шульца было мягкое, оно разоряло его. Пошумит, пошумит, а розанчик или рогальку все-таки даст. Вообще Шульц слыл чудаком большой руки. Он устраивал, например, у себя в пекарне, которая была одновременно и колбасной, литературные вечера. На один из таких вечеров и позвал Казя Табельчук Николая. С тех пор Николай стал их постоянным посетителем.
В тесном помещении, загроможденном большой, всегда жарко пылающей печью, дымящимся котлом для варки колбас, столами, на которых приготовлялось мясо для набивки кишок, ящиками с разными сортами теста и муки, собиралась передовая сновская молодежь, рабочие-железнодорожники. Все рассаживались по углам, чтобы не мешать работать хозяину и его двум подручным. Кто-нибудь начинал читать.
Читали на этих своеобразных вечерах и рассказы Горького, Чехова, Толстого, и поэмы Пушкина, Некрасова, Шевченко, но часто читали, предварительно закрыв двери на крючок, и тоненькие брошюры, напечатанные на дешевой бумаге, вызывавшие всегда оживленные споры на политические темы.
Все присутствующие называли себя социалистами, хотя, кажется, никто из них не принадлежал ни к какой партии. Ожесточеннейшим спорщиком был сам хозяин, менявший свои политические убеждения после каждой прослушанной брошюры. Сегодня он называл себя социал-революционером, завтра — меньшевиком, а послезавтра кричал, что он большевик.
Читать дальше
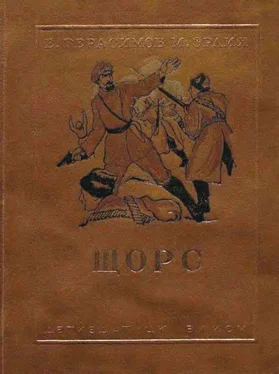





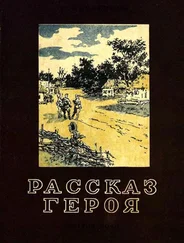


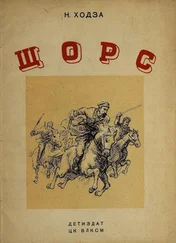


![Евгений Герасимов - Чудесный источник [Повести]](/books/417188/evgenij-gerasimov-chudesnyj-istochnik-povesti-thumb.webp)