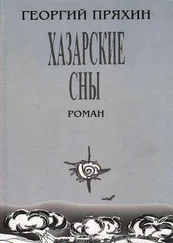И чуждый, волчий запах сырого ветра.
Другой масштаб, другая концентрация степи.
Много лет спустя в случайном телефонном разговоре она скажет мне: «Все хорошо, только знаешь, здесь же ни дубового листочка…»
Откуда в ней, молодой, да еще безродной, это древнее, русское, печальное: «Ни дубового листочка…»?
Вышел на трап и разглядел, что самолет никто не встречает. Ну хотя бы несколько человек за далеким, болтающимся на ветру загоном для встречающих. Или еще лучше — один, единственный человек.
Встречающих не было — проклятая случайность, не оставлявшая никаких надежд. Взгляд летит по отвесу, томясь и пугаясь падения…
* * *
Сидел на скамье в чахлой, голой, насквозь продуваемой аллейке желтой акации, высаженной местным естествоиспытателем, перед таким же чахлым, замученным ветрами саксаулом аэропорта, и мое оцепенение не имело ничего общего с уверенным покоем, в котором я пребывал каких-то полчаса назад. Пустота и равнодушие. Какой-то отек равнодушия, сквозь который не пробивалось даже слабое чувство ожидания, какое я, например, испытывал когда-то в пустом сумеречном классе, гадая: поднимется она ко мне с интернатских танцев или нет.
Ясно — не поднимется. Шевельнулась мысль о том, что ей могли не вручить телеграмму, но и она не всплыла, заилилась, рассосалась. Чтобы строить предположения, был запал и нужен был материал. Ни того, ни другого во мне не было. Все было слишком ясно.
Странно: руки, которые я, сцепив, держал перед собой, тоже отекли и ныли, как будто сердце или, скажем, душа были в них.
Сколько раз она меня не встречала! — никогда прежде я не терял надежды, хотя являлся наобум, без приглашения. Теперь же приехал по ее письму, в моем кармане, рядом с паспортом, лежал этот высокий мандат, удостоверявший, что я любим и меня ждут, а она меня не встретила. И вместо того чтобы подкрепить мысль о возможной ошибке с телеграммой о ее внезапной болезни, да мало ли что случается, когда нас не встречают! — мандат внушал мне совсем другое: ошибки нет.
Пока привыкал к этой оглушительной ясности, возле меня остановилась легковая машина, и из нее к моему неуверенному, пугливому изумлению неуклюже, словно что-то волоча за собой, выбралась Лена.
Лицо ее красное и некрасивое. И вдобавок такое же красное — как клюква на морозе — пальто из искусственной кожи, которое, чувствовалось, было еще не выношенным, новым и гнулось, как панцирь: оно и мешало ей в машине.
Я почему-то сразу напоролся на него. Ожегся. И только потом, когда она уже стояла вплотную ко мне, увидел ее глаза. Они тревожны и рассеянны и в своей рассеянности — неуловимы.
Ловишь рукою солнечный блик, а он сочится сквозь пальцы, оставляя на ладони лишь еле теплящийся след.
В другое время мне хватило бы и этого испаряющегося осадка, тонкой, как после ожога, кожицы гумусового слоя, достаточного, чтобы на целой земле зацвела жизнь.
Но в тот день в моем кармане, рядом с паспортом, лежал мандат на совсем другое. А другого, как я понял с самого начала, не было.
Она ко мне не поднималась.
Мы вновь стояли в почти осязаемой близости друг к другу — через панцирь ее пальто, по берегам ее взгляда. И, как я ни старался, мне никак не удавалось заполучить, запрудить его прихотливое течение.
— Ты действительно приехал?
— Прилетел.
— Я не ожидала…
— Я понял.
— Ты меня простишь?
Что-то в ее глазах менялось, но и это было не то, о чем говорило письмо. Нам кажется, речка меняет цвет, а это всего лишь меняется небо, рельеф ее берегов или их зеленый покров. Река фиксирует изменения окружающей среды, оставаясь в сущности неизменной.
В данном случае она фиксировала мое плачевное состояние, жалея меня.
— Так ты меня простишь?
Меньше всего я думал тогда об отвлеченных проблемах вины, раскаяния, великодушия. Мое сознание было примитивно фактографическим: больше всего его в тот момент занимал, уязвлял автомобиль «Волга» ГАЗ-21, нагло и нетерпеливо хрипевший мотором в двух шагах от нас.
Не дожидаясь ответа, она заплакала. На одном из перекатов речка вышла из берегов и потекла в разные стороны: вспять, на восток, на запад, изумленно ощупывая открывающиеся пространства, суспензию родинок, податливо гнущийся по ее течению ворс бархатистых щек.
Разлившись, она стала мельче. И изменившийся цвет был теперь следствием внутренних перемен.
Талый, мартовский цвет женских слез.
Мне бы утешать, а я растерялся. Да она, честно говоря, и не дожидалась моих утешений. Повернулась и, подобрав панцирь, — в машину, сразу же обрадовано рванувшую с места.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Георгий Пряхин Интернат [Повесть] обложка книги](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-cover.webp)