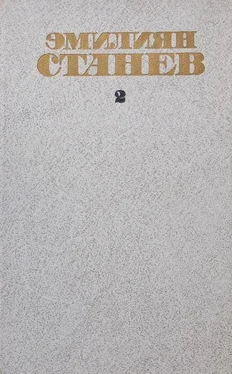Она отвела глаза. Дышать становилось все трудней, кровь бешено стучала в висках. Ей хотелось бежать от этих влюбленных глаз, которые гипнотизировали ее и заставляли трепетать каждую клеточку тела, хотелось спастись от их света, но она продолжала стоять и слушать.
— Мне необходимо видеть вас, — слышала она его голос, проникавший в самое сердце. — При мысли о вас мне легче дышится. Лагерь уже не кажется таким страшным, и можно жить дальше… Эти минуты возвращают мне веру в жизнь…
Он произнес на своем родном языке несколько слов, которых она не поняла, но ощутила их страстную искренность.
— Я ничего не знаю о вас, мы еле знакомы».- прервала она его.
А что обо мне знать? Я всего лишь военнопленный, я сам не знаю, кто я и что я.
Она услыхала собственный голос, спросивший:
— Вы не женаты? — и ужаснулась себе.
Он улыбнулся и показал руки с длинными пальцами, на которых не было кольца. Она смутилась.
— Я должна идти, — сказала она, оглянувшись в сторону дома. — Служанка забеспокоится и пойдет меня разыскивать.
— Останьтесь еще на минуту.
— Нельзя. У меня сегодня много дел.
Она вспомнила о платье, которое надо было дошить. Эта мысль сразу вернула ей озабоченность, в груди что-то сжалось, свет в глазах погас. «Неужели это из-за платья? — подумала она. И сама себе ответила: — Нет, платье ни при чем, тут другое… Из-за него. Завтра он придет снова…» — И она даже задохнулась от страха.
— Вы в самом деле уже уходите? — спросил он, взяв ее за руку.
— Да, так нужно. — Голос у нее был мягкий, теплый, озабоченный.
Он неожиданно сплел свои пальцы с ее, и словно электрический ток побежал от него к ней. Она почувствовала другую его руку у себя на талии и отшатнулась, чтобы избежать этой опасной ласки. Но его рука не отпускала ее. Он притянул ее к себе и, прежде чем она успела опомниться, с жадностью поцеловал трепещущими губами…
Она вырвалась из его объятий и неловко, торопливо побежала к дому, сгорая от стыда, волнения и страха. Лицо ее пылало, в голове лихорадочно роились мысли. И когда она продиралась сквозь ветви шелковицы, в ушах звучали слова, которые словно гнались за ней по пятам: «Завтра в это же время…»
Жизнь Элисаветы была небогата переживаниями, и в ее сознании навеки запечатлелся жаркий день, когда случилось то, чего она страшилась и вместе с тем желала. И теперь она каждый раз снова замирала от волнения, вспоминая, как отважилась тогда пойти к липе после бессонной ночи, когда она боролась с собой, лежа рядом со спящим мужем; как его храп раздражал ее и это укрепляло ее решение; как утром она решила не ходить, не поддаваться вспыхнувшему в ней чувству. «Завтра в это же время…» Не померещились ли ей эти слова? Он ли произнес их или она сама себе их шепнула? Быть может, вчерашняя встреча возникла лишь в ее воображении, а в действительности ее и не было? Она гнала от себя эти мысли, хотела даже задержать Мариолу после обеда, чтобы предотвратить всякую возможность нового свидания. Но когда служанке пришло время уходить, она ничего не сделала, чтобы ее задержать, и, словно преступник, жаждущий поскорее избавиться от нежеланного свидетеля, с притворным равнодушием смотрела вслед шагавшей по тропинке Мариоле.
Сердце буйно колотилось у нее в груди, вдруг замирая, и тогда не хватало дыхания, а у самой липы ей пришлось сесть на траву, потому что у нее подкосились ноги. Потом, когда она увидела, что пленный подходит к ней, ее охватило безумное желание убежать, запереться на все засовы. Но поздно. — Тело было покорным, безвольным, все во власти желания…
С этого дня она перестала быть той Элисаветой, которую знала раньше, как будто под сенью липы, среди нежных, молодых побегов, ее душу поделили меж собой два существа: одно — смирившееся, подавленное, с холодным отчаянием и тоской ожидавшее приближения старости, и другое — доселе неведомое, охваченное надеждой и любовью, ликующее, пренебрегающее доводами разума, жаждущее свободы и счастья. Первое, с его неизменной строгостью, уже ничего не сулило ей, но зато ничем и не угрожало. Оно было слишком трезво, чтобы чего-то ждать от жизни, и желало одного: спокойствия. На его стороне были покойные отец и мать, воспитавшие Элисавету согласно собственным правилам и понятиям, и теперь оно осуждало, предостерегало ее, но она все меньше прислушивалась к его благоразумному голосу. Оно вызывало у нее то же чувство досады, какое она испытывала, возвращаясь мыслями к своей молодости — к годам войны, к долгим одиноким дням и вечерам в большом городском доме, мрачном и молчаливом, где, точно страж, следила за ней мать, высокая старуха со строгими бескровными губами, которой она не смела доверить свои горестные мысли, потому что боялась ее суровости. Мать воспитала ее в духе тогдашней, непреклонной, примитивной и жестокой морали тырновской «знати» — полумещан, полубуржуа, сохранивших нравственные устои своих предков-горцев с их аскетическим отрицанием плоти и любых радостей жизни. Теперь эти покойники были для нее тем же, что и строгие лики византийских святых на иконах. Она больше не испытывала перед ними страха, потому что то, другое существо разгадало их никчемную, наивную тайну и теперь они выглядели в ее глазах обманщиками. Это другое существо пробудило в ней все женское, что подавлялось и не находило удовлетворения в течение долгих лет, подобно подземной реке, теперь пробившейся на поверхность. Она отлично помнила, как пробудилось это второе существо, еще недавно дремавшее в глубинах ее сердца, так как помнила каждый миг его зарождения. Она противилась, восставала против него, много раз гнала от себя и отталкивала, а вместе с тем и призывала со страхом и трепетом, сгорая от стыда перед своим падением и бесчестьем. С той минуты, когда она поняла неодолимость своего чувства и убедилась, что воля ее с каждым днем слабеет, это новое существо становилось все сильней и уверенней. Со смелостью и бесстыдством оно предъявляло свои права, отметая все нравственные запреты, все доводы разума.
Читать дальше