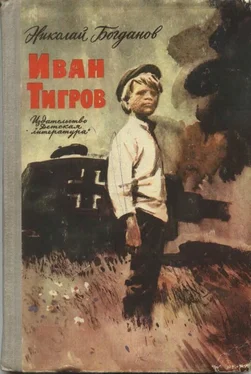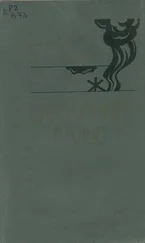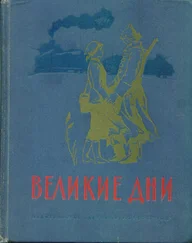Наши солдаты, подоспевшие на стрельбу, едва отняли у него порядочно наглотавшегося снега фашиста.
— Легче, легче, это же «язык»!
— Я ему покажу, как распускать язык! Надоело мне! То свои шутки шутят… Теперь эти черти начали… Нет, шалишь!
— Ложись! — повалили его в окоп солдаты. Фашисты открыли по месту шума беглый миномётный огонь. Да такой… наши едва живыми выбрались.
И только потом разобрались, что Бобров троих из напавших положил наповал гранатами, одного убил в упор из винтовки да одного взял в плен.
А Васюткина, чуть живого, нашли недалеко в овраге. Автоматной очередью чересчур бойкому солдату фашисты перебили ноги, когда он попытался от них удирать. После перевязки и стакана спиртного Васюткин приободрился, приподнялся на носилках и откозырял начальству.
— А где же вы были, Васюткин, когда Бобров отбивался от врагов?
— Проявлял смекалку! Раненный первым залпом, по-тетеревиному зарылся в снег. Дожидался взаимной выручки! — ответил неунывающий Васюткин.
— Значит, Бобров один разогнал целую банду?
— Так точно!
— Ну, молодец, товарищ Бобров, поздравляю с боевым крещением. Представлю к награде! — сказал командир.
— Служу Советскому Союзу!
— В первой стычке и такая удача… Как это у вас так лихо получилось?
Бобров смутился: по сибирским понятиям «лихо» означало «плохо». Ему бы надо ответить: «Действовал по уставу», а он запнулся, как школьник на экзамене от непонятного вопроса, и, покраснев, ответил:
— Да так… Чересчур сильно я напугался…
Тут все так и грохнули. Даже командир рассмеялся:
— Ну, Бобров, если с испугу так действуете, что же будет, когда вы расхрабритесь?
Оглядел командир весёлые лица солдат и, очень довольный, что в роту пришёл новый хороший боец, добавил, нахмурившись для строгости:
— Шутки над новичками отставить! Ясно?
Трое суток неумолкаемо грохотал бой на краю Брянского леса. От деревни Кочки рукой подать. А на третий день в деревню ворвались немцы. Не слезая с мотоциклов, подкатывали гитлеровцы к каждому дому и кричали:
— Рус, выходи! Шнель!
Они гнали старого и малого на поле боя — собирать оружие и хоронить убитых.
Вместе с Арсением Казариным, колхозным конюхом, оставшимся теперь без коней, пошёл и его внучек, сирота Алёша.
Они плелись позади всех, бородатый дед и босоногий мальчишка, тащивший на плече сразу две лопаты.
Когда Алёша увидел наших убитых солдат, он заплакал. Лицо, залитое слезами, сморщилось так, что все веснушки слились в одну.
— Молчи, — сказал дед, — это война! Чем реветь, посчитай-ка лучше, сколько фашистов наши постреляли! Недаром же наши полегли… Вечная им слава!
И дед стал хоронить убитых прямо в окопах, где застигла их смерть. Оружие немцы приказывали стаскивать к большим грузовикам:
— Аллес, аллес, давай, давай!
Дед сердито кряхтел, еле двигаясь под грузом автоматов и ящиков со снарядами.
— Больно жадные! — ругался он, возвращаясь на поле боя. — Смотрите не подавитесь…
Потом он куда-то исчез. Алёша не сразу увидел его. Дед волочил за собой противотанковую пушку. Затащив её в блиндаж под рябиновым деревцем, он стал ловко закапывать её в одну братскую могилу с нашими артиллеристами.
— Дед, ты это зачем? — удивился Алёша.
— Так надо! — прикрикнул на него дед и, оглянувшись, зачерпнул солдатской каской масло, натёкшее из подбитого танка, словно чёрная кровь.
Он напитал маслом шинель и прикрыл ею затвор пушки.
— Теперь не заржавеет!
Почесав зудевшие цыпки на ногах, Алёша стал быстро закапывать клад, нажимая на лопату так, что у него заболели пятки. Он уже догадался, что задумал дед. А дед подкладывал в яму один ящик снарядов за другим: сгодятся!
— Заприметь место, — сказал дед, вытерев пот рукавом.
— Оно и будет приметное, — ответил Алёша. — Видишь: все корни рябине пообрубили. Засохнет рябина-то.
— Ага, значит, под сухой рябиной! Запомним.
Дед посмотрел на немцев, которые расхаживали по полю с засученными рукавами и так увлеклись, выворачивая карманы убитых, что ничего не заметили. Он усмехнулся:
— Постойте, вас ещё жареный петух в макушку не клевал!
Алёша не понял задорных дедовских слов.
— А знаешь, дедушка, — сказал он, — немцы говорят, Гитлер уже в Москву вошёл.
— Хотел с Москвы сапоги снести, а не знал, как от Москвы ноги унести.
— Это кто, дедушка?
— Да всякий, кто бы к нам ни совался. Я сам таковских бивал.
Читать дальше