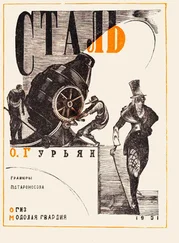— Клянись просто и без условий. Она отвечает:
— Поразмыслите как следует о том, что вы собираетесь спрашивать, вы, мой судья. Потому что вы берете на себя большую ответственность.
И тогда, чтобы усыпить ее внимание, я начинаю ее расспрашивать о ее родителях и детских играх, о священном дубе в Домреми, о том, как она с подружками сплетала венки и вешала их на его ветвях. Понемногу, незаметно я перехожу к ее голосам. Ее лицо светлеет, и, увлекшись, она говорит:
— Я слышала голоса в полдень, летом, в саду моего отца, когда звонили колокола.
Колокола? Студентом в Парижском университете я тоже слушал колокола. Они перекликались, то вступая, то отступая, ведя свою сложную мелодию, хоровод небесных сфер. Тонкие дисканты перебивали друг друга, торопливо вознося свои детские голоса. И тревожные удары большого колокола, от которого сотрясались стены моей кельи.
Я тоже слышал голоса, но я знал, что это звонарь Собора богоматери дергает веревки колоколов.
Жанна говорит:
— Я поняла, что это голоса ангелов, святой Маргариты и святой Катерины.
— Как же ты узнала, что это они? Как ты различала их друг от друга?
Жанна хмурится и повторяет:
— Я знала, что это они, и я их различала.
— Но как это?
— Я узнала их, потому что они назвали мне свои имена.
— Но, Жанна, ведь имена ничего не значат. Они могли обмануть тебя. Подали они тебе какой-нибудь знак, что это действительно они?
— Я вам сказала, что это они. Если хотите, верьте мне.
Я продолжаю допрос, отвлекая ее внимание мелкими подробностями, утомляя ее и раздражая, стараясь добиться признания, что ее голоса не от бога.
— А в каком виде они являлись?
— Их головы были увенчаны коронами. Я видела их лица.
— А волосы у них есть?
— Конечно! С чего бы им стричься.
— А эти волосы длинные и обильные?
— Я не знаю. Я не знаю, есть ли у них руки и другие видимые члены тела. И об их одеждах я не буду говорить, потому что я о них ничего не знаю. Но я видела их лица, и они говорили со мной, и я понимала.
— Как же они могли говорить, если у них нет тела?
— У них прекрасный, нежный и кроткий голос. Они говорят по-французски.
— А по-английски они не говорят?
— С чего бы им говорить по-английски? Они не на стороне англичан.
Я начинаю дразнить ее, надеясь вывести из себя:
— Есть у них серёжки и кольца?
— Я ничего об этом не знаю.
— Они одеты или обнажены?
—Что же, вы думаете, что у бога не во что одеть их?
Так бесконечно тянется допрос. Я замечаю, как она устала и побледнела, и я снова повторяю те же вопросы.
—Ты ничего не сказала о теле и членах святой Маргариты и святой Катерины.
— Я сказала вам все, что я знаю, и больше я ничего не скажу. Я их хорошо видела. Я вам все сказала. Уж лучше бы велели отрубить мне голову. Я больше ничего не скажу.
— Жанна,— говорю я,— почему ты думаешь, что это бог создал их такими, какими ты их видела? Ведь известно, что дьявол Люцифер является в ослепительном свете, в виде прекрасного мужчины, и ему ничего не стоит принять женский облик. Если бы дьявол явился тебе в виде ангела, как бы ты узнала, добрый это ангел или злой?
— Разве я не отличила бы, ангел это или нечто, что под него подделывается?
И она говорит о том, что ее святые являются ей в сопровождении миллиона ангелов, очень маленьких, в бесконечном количестве.
У меня самого в глазах начинают мелькать и кружиться какие-то светящиеся точки, искры, звезды, трепещущие крылья. У меня кружится голова. В этой высокой обширной зале какой-то тяжкий воздух. Мне кажется, что пахнет серой. Откуда я знаю, может быть, эти сорок епископов, и аббатов, и докторов церковного права переодетые черти?
Я совершенно измучен. Мой язык распух и не помещается во рту. У меня едва хватает силы приказать отвести Жанну обратно в ее темницу.
Глава седьмая
ГОВОРИТ ПЬЕР КОШОН
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Уже три месяца тянется процесс, и я не могу добиться признания, что её голоса и дела, послушные этим голосам,— от дьявола.
Я допрашиваю ее в зале суда, и я допрашиваю её в её темнице.
Это хорошая темница, способная сломить дух и тело. Обширная, низкая, и нету в ней окон. Посередине, у толстой колонны, поддерживающей потолок, настелен деревянный помост. На нем охапка соломы и две миски. На этой подстилке Жанна прикована цепью за ногу к колонне так, что может она лечь, и сесть, и ступить два шага — не больше.
Три тюремщика не покидают ее ни на мгновение. Их старательно выбрали, думаю, по всей стране не найти им подобных. Я сам не могу без отвращения смотреть на их тупые и жестокие лица. Когда она бодрствует, она принуждена слушать их наглые насмешки. Когда она спит, они лежат рядом с ее подстилкой; сторожат каждое ее движение.
Читать дальше

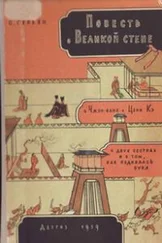
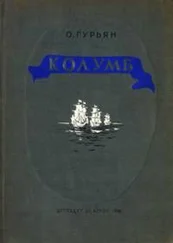

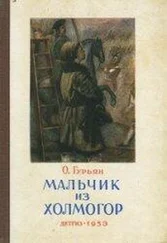
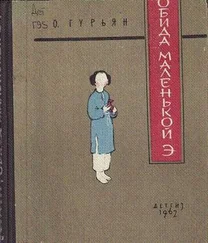


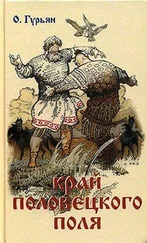

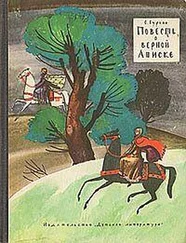
![Ольга Гурьян - Мальчик из Холмогор [Повесть]](/books/400942/olga-guryan-malchik-iz-holmogor-povest-thumb.webp)