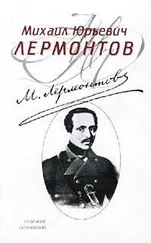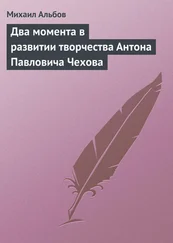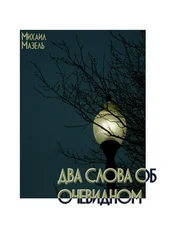— Стыдно? Слышите, товарищи, ему стыдно! — Жусс окинул камеру беглым взглядом и снова обернулся к Павлику: — Стыдно? Тобою гордится вся тюрьма, весь город, ты стал любимцем Парижа. О тебе песни поют.
…Мужество не сломишь
Ты, презренный бош!
Выстоит Орленок,
Славный наш Гаврош! —
пропел месье Жусс… — Стыдиться тебе нечего! Ты вел себя на допросах как настоящий революционер.
Павлика очень взволновали эти слова.
— Я совсем не такой, — сказал он скромно, краснея от смущения. — Я обыкновенный…
Интерес к Павлику возрастал с каждой минутой. Начался спор о том, где и на каких нарах его лучше устроить. В тесной, набитой до отказа каменной клетке для него нашлось много ^свободного места. Каждый предлагал ему лечь рядом.
— Внизу сыро, параша стоит, — доказывали одни.
— А у вас, наверху, душно. Дышать нечем, — возражали другие.
Испанец Хозе не спорил. Он схватил новичка в охапку и, потянув за собой напарника, унес его к себе.
— У нас тебе будет лучше. Я немного русский язык знаю, — сказал он. — С русскими летчиками против Франко воевал.
На потолке зажглась электрическая лампочка. Камера рассеклась на светлые и черные полосы. Павлик попал в полосу света. Взоры всех заключенных устремились на него. Испанец засыпал его вопросами о Советском Союзе, и Павлик с радостным волнением отвечал на них.
Еще в полночь из камеры № 10 начали выводить людей. Они прощались с товарищами — кто молча, кто кивком головы, кто грустной улыбкой, а кто вздохом. Один не выдержал, громко зарыдал. Он ухватился руками за косяк двери и отказался идти. Его взяли силой.
— Я не хочу умирать, я не хочу умирать! — истерически кричал он.
Оставшиеся в камере переглянулись, искоса посмотрели на Павлика. Они пытались от него скрыть то, что он сам давно осознал. С глубокой благодарностью глядел он на этих славных людей, которые ради него нашли в себе мужество скрыть свое волнение в предсмертный час. Павлик глазами разыскал Жусса. Депутат Национального собрания сидел у самого выхода, опустив голову на руки.
Снова распахнулась дверь, снова на пороге показался дежурный офицер со списком.
— Хозе Эрнандес!
Испанец молча пожал Павлику руку и твердым шагом вышел в коридор.
— Лео Буссар!.. Альфредо Фичино!
Увели четвертую десятку. В камере остались двое — Павлик и Жусс.
Павлик вопросительно посмотрел на француза:
— Почему нас не вызывают?
— Еще вызовут, — помолчав, отозвался Жусс. — Не беспокойся, нас не забудут. Мы с тобой, вероятно, на особом учете. — И, глубоко вздохнув, добавил — Жить! Ох, как хочется, черт побери, жить!
Почувствовав на себе укоризненный взгляд, Жусс понял, что его слова показались русскому мальчику проявлением слабости. Он усмехнулся и, скрестив руки на груди, зашагал по камере.
— Да, я не скрываю: хочется жить, — повторил он. — Хочется еще многое сделать. Коммунисты скроены из особого материала. Мы прежде всего принадлежим народу. А народ говорит: «Умереть никогда не поздно— боритесь, побеждайте!» Мы можем смело взглянуть в глаза смерти, без страха, без угрызений совести, можем с гордостью повторить слова Джордано Бруно, знаменитого итальянского ученого: «Вы произносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю».
Жусс подсел к Павлику, положил ему руку на колено:
— Как ты думаешь, великий мыслитель так сказал потому, что в последнюю минуту хотел досадить своим палачам, иезуитам? Нет. Дело тут совсем в ином. Джордано Бруно мужественно взошел на костер, приготовленный для него инквизицией в 1600 году, и не отрекся от того, что считал истиной. Он до последнего вздоха верил в будущее, знал, что на смену неудачам придет успех. Он верил в то, что человечество в конце концов уничтожит мракобесов и свет победит тьму. Подумай, как много еще на земле (несправедливости! — громко произнес депутат Национального собрания. — Пятнадцать веков существует французское государство. Являются захватчики и говорят: «Отныне ваша страна как самостоятельное государство больше не существует. Мы — хозяева, а вы — рабы». И сеют смерть, жгут, расстреливают, убивают. Да разве только здесь? А в Китае! Эта великая держава существует пятьдесят веков. Приходят японские империалисты и объявляют: «Отныне Китай становится нашей колонией». Или, скажем, Индия… Англия сама по себе такая маленькая, а заявляет: «Индийский народ должен покориться британскому льву». Почему? По какому праву? Хищники в погонах улыбаются: «Сильному вопросов не задают». Слышишь, Павлик, сильному!
Читать дальше