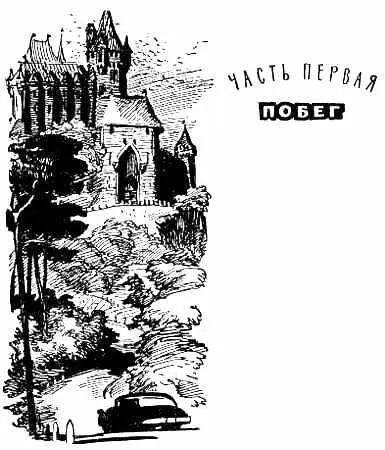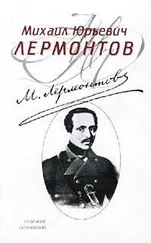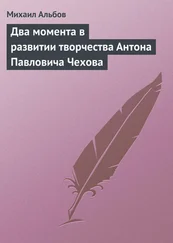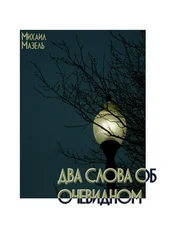Михаил Юрьевич Шмушкевич
Два Гавроша
Рисунки К. Безбородова

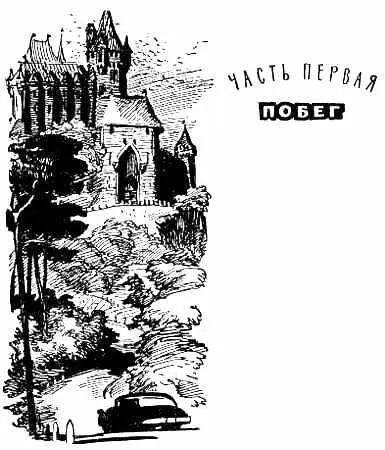
В упаковочный цех сигаретной фабрики Этцеля и К° вошел сухопарый ефрейтор. Засунув руки в карманы, широко растопырив ноги, он комично завертел во все стороны крохотной мышиной головкой. В него впились десятки испуганных глаз. За кем он пришел?
Ефрейтор брезгливо выпятил нижнюю губу. В цехе работало более сорока ребят, и все эти оборвыши, казан лось ему, были похожи один на другого. Пожилой немец с утиным носом подошел к ефрейтору.
— Шэрнэнко! — прозвучал резкий, повелительный голос. — К коменданту.
Мастер цеха Отто Циммерман заговорщически улыбнулся. «Опять вызывают Черненко! На этот раз, можно надеяться, с ним окончательно расправятся. А что же! Он затопил подвал, настроил против меня маленьких большевиков, взбунтовал их…
Циммерман снова вспомнил, как несколько месяцев назад он чуть не погиб. Это произошло во время воздушной тревоги. Завыла сирена. Он, разумеется, сразу бросился к выходу, чтобы поскорее укрыться в бомбоубежище, но у самой двери маленькие разъяренные бандиты накинули на него брезент и начали колотить. Главное — молча. Без единого слова. Он задыхался, чувствовал, что близок конец… И вдруг над самым его ухом кто-то злобно процедил по-немецки: «Это тебе, фашистская морда, за то, что заставляешь голодных детей работать! За Витю Степанкова! Он из-за тебя повесился». По-немецки! Это Циммерман хорошо помнит. Спустя две недели к нему в больницу явился следователь. «Запишите, — настаивал больной, — в моем цехе только двое говорят по-немецки: Шэрнэнко и Валюнас. Подозреваю первого. Он ни разу нормы не выполнил. На немцев волком глядит».
— Вот! — указал ефрейтору Циммерман на светловолосого паренька с желто-синими пятнами на бледном исхудалом лице. — Шэрнэнко! — окликнул он мальчика, возившегося у сваленных в кучу фанерных ящиков. — Пауль, за тобой пришли.
Павлик Черненко поднял голову. В его синих глазах отразился испуг. К унтер-офицеру. Опять бить начнут…
— Ком, ком! [1] Идем, идем! (нем.)
На фабричном дворе, у самых ворот, орудовал метлой дядя Панас. Павлик издали заметил, как он от волнения закусил нижнюю губу, но, когда мальчик подошел ближе, дядя Панас уже глядел спокойно, ободряюще. «Дядя Панас мне верит. Он знает, что я не расскажу, как мы с ним затопили склад», — не без гордости подумал Павлик и вспомнил мудрые слова старшего друга: «Стойкость проверяется в опасности. Опасность — это вроде аптекарских весов. Она, брат, точно определяет, сколько в тебе весу — стоит ли чего-нибудь твоя жизнь или не стоит ничего жизнь эта».
Неподалеку от сигаретной фабрики, в двух обнесенных колючей проволокой бараках, разместился лагерь для детей, согнанных гитлеровцами со всей Восточной Европы. Здесь было свыше трехсот ребят от восьми до четырнадцати лет.
Кабинет коменданта лагеря и караульное помещение находились в специальной пристройке. Сюда Павлика в последнее время вызывали часто. Прежде от него требовали признания, что он организовал нападение на Циммермана, а вот теперь, уже несколько дней подряд, допрашивают по делу о затоплении склада.
Унтер-офицер, жирный, как боров, с коротким, тупым носом и насмешливыми глазами, задает один и тот же вопрос: «Пауль, почему ты во время тревоги не убежал, как все, в бомбоубежище?» Павлик твердит одно: «Я не боюсь самолетов». Его бьют, а он стоит на своем: «Я не боюсь самолетов. Кто затопил подвал — не знаю».
Павлика ввели в кабинет. За столом, откинув голову на спинку кресла, сидел комендант. Он посмотрел на мальчика сверху вниз и с деланным сочувствием воскликнул:
— Боже мой! Кто же это тебя, герой, так помял?!
В стороне, на диване, сидел человек в штатском. Увидев его, Павлик вспомнил угрозу унтер-офицера и решил: «Это за мной из гестапо. Там меня расстреляют. Ну что ж, пускай! От меня рее равно ничего не добьются!»
— Пауль, может быть, ты наконец стал умнее, а? — Комендант вышел из-за стола. — Мюрсеп, тот маленький эстонец, что рядом с тобой работает, нам уже все рассказал. Он говорит, что видел собственными глазами, как ты открыл краны умывальника… Два миллиона сигарет пропало, черт возьми! — выкрикнул эсэсовец, и его большой выступающий кадык зашевелился. — Чего молчишь? Говори! Признаешься — прощу. Я, знаешь, человек справедливый. Ну что, Мюрсеп правду говорит?
Читать дальше