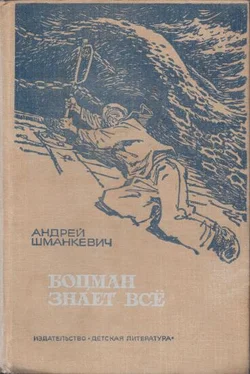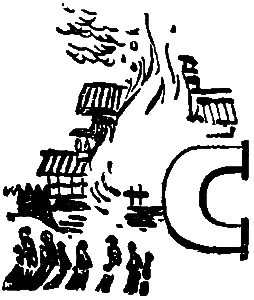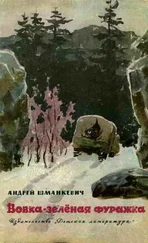— Или сходи, или леску рви, как хочешь! — крикнул я этому «крокодилу» и бросился в воду.
Новая беда! Сразу же забрызгал очки и, куда плыть, не вижу. Выскочил на берег, снял очки — совсем ослеп. Выходит, даром трусы намочил. Давай скорей одеваться — вода-то не комнатной температуры…
Смотрю, орешник ещё держится, ещё цепляется корнями за землю, но треплет его как в хорошую бурю. Схватился я прямо за леску, повернулся спиной к реке и потащил щуку волоком, по-бурлацки. Мне нечего было терять: лодка выбралась из суводи и взяла курс на Тарусу.
Уже в сумерках выволок я свою добычу на берег. Щука к тому времени даже хвостом не шевелила. Выдрать блесну у неё из глотки я уже не смог — сам тоже еле шевелился. Просто ожёг леску папиросой.
Завязал я в палатку всё имущество, запихал щуку в рюкзак и потопал вниз по матушке Оке, по бережку, где по тропочке, где прямо через кусты. Иду и проклинаю и страсть свою рыболовную, и пеньки с корнями…
А река, как назло, точно вымерла: ни лодки рыбацкой, ни моторки бакенщика. Плывёт моя лодочка по самой середине Оки: то носом ко мне повернётся, то кормой с мотором.
Когда огни Тарусы были совсем рядом и я уже не мог точно сказать, какой я в тот момент ступаю ногой, правой или левой, на помощь мне пришла стихия: с противоположного берега реки налетел такой шквал с дождём, что через десять минут моя беглянка очутилась у моих ног!
Я хохотал на всю Калужскую. Я плясал, как в молодости. Я сбросил рюкзак, припал на колено и поцеловал торчащий из рюкзака щучий хвост.
Мне так начало везти, вероятно, за всё пережитое, что «Чайка» зарокотала, как только я к ней прикоснулся! А в Тарусе и того больше удачи привалило: меня ждала, как говорят моряки, «под парами» новенькая «Волга». И не до Серпухова, а до самой Москвы, до самой квартиры!
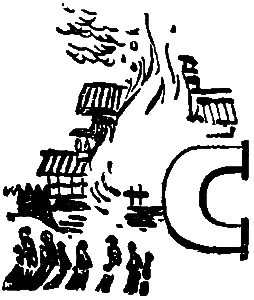
Серафим ходил вдоль забора и занимался последним делом — отыскивал в заборе большие и малые щели и дыры. Автор просит понимать слова «последним делом» не в смысле «плохим», а последним по счёту. Этим заканчивалось строительство ограды его владений. Он ходил по своему собственному двору вдоль нового забора и щели с дырами отыскивал на предмет их полной ликвидации. Что же тут плохого? Отыщет и мелком отметит, чтобы потом одним заходом все их ликвидировать…
А вот Лёнька, сосед Серафима слева, занимался тем же самым с другой стороны забора, но, обратите внимание, совсем с другими намерениями: он и не помышлял заниматься потом плотницкими делами. Больше того — он предпринимал некоторые действия, в результате которых одна из дыр (это была дыра на месте вывалившегося из доски сучка) стала бы значительно больше. За этим занятием он и был захвачен Серафимом.
— Это… это что такое?.. — воскликнул задохнувшийся от негодования хозяин подворья, увидав кость, производившую в вышеупомянутой дыре вращательные движения.
Кость моментально исчезла, и Серафим, изогнувшись вопросительным знаком, заглянул на сопредельную сторону. Лёнька уже стоял на середине своего двора. В одной руке он держал своё орудие разрушения — баранью кость, остаток сегодняшнего жарко́го, а из большого пальца второй руки пытался, по-видимому, высосать ответ на грозный вопрос Серафима.
— Я тебя спрашиваю: ты зачем это забор ломаешь? Шалопай… — зашипел Серафим.

Услышав знакомое слово «шалопай» (он часто слышал его от соседа, когда ещё не было этого монументального забора), Лёнька заметно успокоился. Теперь он наверное знал, что за забором находится всё тот же Серафим, похожий одновременно и на гусака и на лягушку, потому что у него была жабья морда, посаженная на гусиную шею.
— Я собачку хотел покормить… — сказал Лёнька.
— Что? Собачку покормить? Я тебе покормлю!.. Заимейте своих и кормите… А моих не сметь трогать!.. — прорычал Серафим.
Услышав такое, Лёнька мужественно заревел, то есть заревел про себя. Наружу он выпустил только бриллиантовые слёзы, а звуковое оформление зажал в груди, хотя рыдания распирали её так, что хоть обручи набивай. Но Серафим напрасно подумал, что это он так допёк Лёньку. Все остальные его слова Лёнька пропустил мимо ушей, и только два слова разбередили его: «Заимейте своих…»
Читать дальше