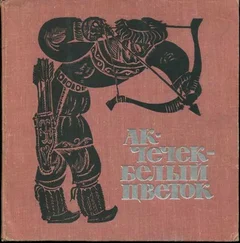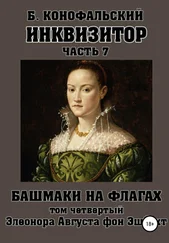— Фатыма-апа сказала: если бы каждый ученик принёс немного топлива… Я возьму солому и отвезу в школу.
— А кто тебе позволил? Летом все носили солому с поля, а ты хоть одну вязанку принёс? Отойди, солома не твоя.
Что же делать? Миргасим задумался, потом пошёл под навес, где лежали аккуратно сложенные сухие кизяки. Но когда протянул руку к этим бурым кирпичам, в окно постучала бабушка.
— Зачем берёшь? — спросила она, выйдя на крыльцо.
— Бабушка, учительница велела топливо принести. Замерзаем в школе.
— Я тебя летом просила: «Миргасим, собери навоз», а ты много собрал? Я тебя просила: «Пожалуйста, Миргасим, помоги навоз топтать», а ты топтал? Нет, я тебе ни одного кизяка не дам.
— Бабушка, надо печку в школе топить.
— Конечно, печку топить надо. Иди на берег реки, наломай сухого репейника. Отлично репейник в печке горит — и свет даёт, и тепло.
— Ну сама подумай, много ли я притащу!
— В один раз немного, в другой раз немного, так понемногу и станет много.
Делать нечего, Миргасим надел шапку-ушанку, подпоясал армяк верёвкой, чтобы было чем обмотать вязанку, и направился к двери.
— Постой, внучек, ты рукавицы забыл. — И бабушка протянула ему свои старые, толстые, обшитые холстом и кожей рукавицы.
— Это торбы, а не рукавицы! — рассердился Миргасим, закинул бабушкины рукавицы за печку и взял пёстрые шерстяные, которые сестрёнка Шакире себе связала.
«Эх, до чего же нарядные! Почему она мне такие не свяжет?»
Миргасим спрыгнул с крыльца. Звонко цокнули о замёрзшую землю стальные подковки. День был сухой, морозный, и кое-где на заборах поблёскивал первый иней, а кусты, которые ещё вчера уныло качали голыми чёрными ветками, сегодня были похожи на белых лебедей.
Миргасим поднял голову и запел:
Башмаки, башмаки.
Цокают подковки!
А башмаки в лад песенке: цок-цок-цок, топ-топ-топ!
И прицокали,
И притопали!
Куда? На берег, к овражку.
Ранней весной, когда войны ещё не было, здесь, у оврага, бегали, скакали телята. И мычать-то они тогда ещё не умели, только плакали: «Ы-ы-а…», но уже пробовали бодаться, честное слово! Глаза у них были синие, с длинными, прямыми ресницами. Глядят, просят: «Пожалей меня…»
«Мама, можно я только вон того, красного, поглажу?»
«Не трогай, Миргасим, у тебя руки грязные».
«Я сегодня утром руки мылом мылил, кипятком шпарил. Не веришь? Бабушку спроси, она сама меня заставила».
А телята такие славные, они первую весеннюю светлую траву розовым языком гладят, щипать ещё не умеют, только учатся.
«Иди отсюда, уходи, — просит мама, — дядя Сабир рассердится».
«Я полыни прошлогодней наломаю для костра!»
Над костром висит кастрюля с кипящей водой. Зоотехник Сабир-верста мирно похаживает между телятами, одного погладит, другому в рот заглянет. Белый халат развевается на нём, как на палке, как на пугале огородном. При каждом шаге, как железо, гремит этот туго накрахмаленный, ослепительно белый халат.
Вот зоотехник подошёл к костру. Миргасим подбросил охапку сухой полыни, огонь вспыхнул ещё жарче, искры посыпались во все стороны и упали на белоснежный халат.
«Кто тебя звал сюда, Миргасим?» — спрашивает длинный Сабир, свирепо вращая глазами.
Он открывает металлическую длинную коробку, достаёт оттуда щипцы и этими щипцами вынимает из кипящей кастрюли шприц с огромной иглой.
Миргасим зажмуривается, затыкает уши, убегает. Бежит спотыкаясь, будто он слепой и глухой. Не может он смотреть, как игла вонзится телёнку в зад, не может слышать, как жалобно кричат телята…
Но покинул деревню зоотехник. Далеко он теперь, лошадей военных лечит. Нет теперь и телят, которым он прививки делал. Здоровенные выросли! Мычать научились, но и с ними тоже пришлось расстаться, увезли их.
Все куда-то едут, откуда-то приезжают, где-то застревают, пропадают без вести…
Шуршат на ветру сухие стебли репейника.
Здесь, у овражка, когда репейник этот красно-синими цветами цвёл, увидал Миргасим однажды, как Асия плачет.
Мёдом пахли цветы, и пчёлы садились на них, сладкий сок пили. Но Асия этого не замечала. Она письмо читала и плакала. Больше писем нет ей. Читать нечего, незачем и плакать.
Женщинам, которые плачут, бабушка внушает: «Будем надеяться, будем верить, ждать хороших вестей. Пусть горе-беда стоны наши не подслушает, на плач наш не явится. Не следует самим на себя беду слезами кликать».
И Асия слёзы свои теперь бережёт, не то что прежде. Да и Чулпан горевать не даст, не любит он, когда плачут. Подойдёт, всё лицо оближет — нравится, должно быть, солёное.
Читать дальше
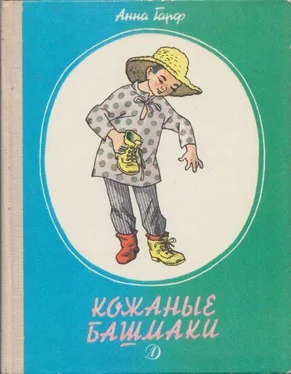
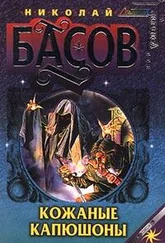
![Анна Гарф - Грозный Чалл [Монгольские сказки]](/books/25751/anna-garf-groznyj-chall-mongolskie-skazki-thumb.webp)