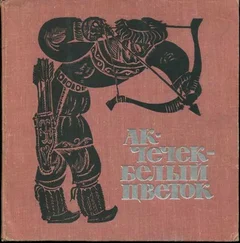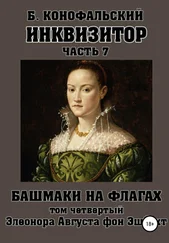— Ты не одна, Карима, — сказал председатель.
Карима? Так зовут мать Абдула-Гани.
Миргасим сжимает руку друга. Рука дрожит. Что это? Почему вдруг стало так холодно?
— Мы скорбим вместе с тобой, Карима, — говорит председатель, — твоё горе — наше горе. Письмо, которое тебе пришло, пусть люди услышат.
Он поднял вверх конверт, вынул письмо и прочитал вслух:
— «Здравствуйте, дорогая Карима Гарифовна, здравствуйте, дети, Зианша, Наиля, Абдул-Гани! Печальную весть несёт вам наше письмо. Ваш муж и отец, наш общий любимец сержант Насыр Насыров, шестнадцатого августа тысяча девятьсот сорок первого года в бою с немецкими оккупантами пал смертью храбрых. Он честно выполнил свой долг перед Родиной и всем советским народом. Мы все, его однополчане, уважали его за весёлость, за доброту, за верность в бою, личную отвагу и бесстрашие. Он беспощадно мстил фашистским гадам за все их злодеяния, которые они творили и творят на нашей земле и которые пришлось нам видеть своими глазами. За проявленное геройство в боях с врагами, за мужество он представлен к награде (посмертно). Мы не забудем и не простим врагу. Примите, дорогая нам семья нашего товарища Насыра Насырова, глубокое сочувствие в тяжёлом вашем горе. Мы отомстим. Клянёмся его памятью».
Миргасим всё ещё дрожал мелкой дрожью. Было так тихо, что он явственно услыхал, как потрескивает в лампе фитиль.
Председатель Рустям бережно сложил письмо, спрятал в конверт.
— Это письмо мы сохраним навечно в несгораемом шкафу, — сказал он. — Пусть и внуки и правнуки знают — жил в нашем колхозе доблестный человек и будет в нашей памяти всегда жить. Он жил для живых и жизнь свою отдал для того, чтобы мы жили. И жить нам следует так, чтобы он порадовался, если бы мог видеть нас.
Председатель помолчал. Потом поднял голову, сказал:
— В память о Насыре Алтын-баше, о Насыре Золотой Голове я даю на постройку самолёта все свои сбережения.
Он вынул из кармана гимнастёрки самописку, обозначил на листе бумаги цифру — сколько денег вносит.
— Мы тоже подпишемся! — послышались голоса.
Люди потянулись к скамье, где стояла лампа и где в её свете ярко белел подписной лист.
— Всей деревней сложимся. Пошлём, пошлём на фронт в память о Насыре свой собственный самолёт. Обязательно пошлём.
— Ай-вай-вай! — вдруг раздался не то стон, не то плач, и откуда-то из тьмы выполз на крыльцо Саран-абзей.
— А за репу мою, репу белую, сладкую, что гуси потравили, кто мне заплатит?
Люди шарахнулись от него. Он стоял один на свету, длинный, чёрный, в бархатной шапке, словно гусеница.
— И ещё корзину мою круглую чуть не утопили, и пеньковую верёвку. — Он вытащил из-за пазухи эту верёвку: — вот!
Когда он замолчал, Миргасим услышал стук своего сердца. Никто даже не вздохнул.
И вдруг тишину прорезал голос, молодой, сильный, — голос Миргасимова брата Зуфера:
— Эй, старик! Уходи отсюда вместе со своей пеньковой верёвкой!
— Человек с коротким умом обладает длинным языком, — возразил Саран-абзей, спрятал верёвку в карман, спустился с крыльца и словно исчез, растворился во тьме.
Глава девятнадцатая. Собственность
Ох, как о репе, что гуси побили, Саран-абзей горевал! Прослезился даже. Однако Миргасима и Фаима-сироту слёзы эти не разжалобили.
Притаившись, глядели мальчики, как Саран-абзей, горько причитая, собрал битую репу, всю до единой, в мешок, взвалил себе на закорки и, сгибаясь под тяжестью, поплёлся к проезжей дороге.
Мальчики последовали за ним. Он не замечал их, шёл, не оглядывался, спешил к повороту дороги, туда, где сегодня должны были ехать несколько семей беженцев. Их эвакуировали из родных мест, спасли от фашистов. Направили сюда, в одно дальнее село нашего района. Там для них было жильё приготовлено, хлеб.
В дороге беженцы — старики, женщины, дети — наголодались, нагоревались. Сидели на телегах молча, даже дети не шумели. Должно быть, эти последние километры пути казались им особенно долгими.
И вот вдруг навстречу обозу выходит наш скупой. Высыпал он репу из мешка на обочину дороги и говорит:
— Денег не надо. Меняю на шурум-бурум.
Беженцы собрали что у кого было — спички, носовой платок, перламутровые пуговицы…
Ребятишки обрадовались репе и не посмотрели, что она битая, так и впились зубами.
Миргасим рассмеялся.
— Чего ты?! — возмутился Фаим. — Плакать хочется, на них глядя, а ты смеёшься.
— Да ты послушай, как смешно они лопочут — «Мамаду, мамаду!»
Читать дальше
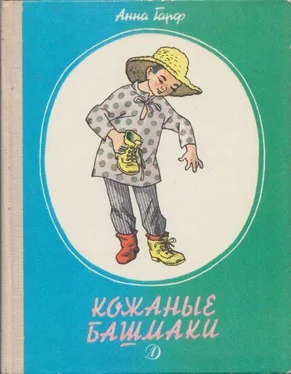
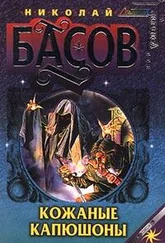
![Анна Гарф - Грозный Чалл [Монгольские сказки]](/books/25751/anna-garf-groznyj-chall-mongolskie-skazki-thumb.webp)