Минули октябрь, ноябрь и декабрь. Из города к Большой зарубке не раз летали вызванные по радио самолеты, но облака и туманы скрывали хребет, и обнаружить группу Потапова так и не удалось.
2
С запада и востока каменистую площадку сжимали отвесные утесы, к югу она обрывалась крутым склоном, на севере переходила в узкое ущелье, которое и звалось Большой зарубкой. Издали казалось, что в этом месте хребет надрублен гигантским великаньим мечом.
Площадка метров в десять в длину и около трех в ширину не была обозначена ни на одной карте, почему и не имела официального наименования. За малые размеры и частые свирепые ветры, бушевавшие здесь, пограничники прозвали ее «Пятачок-ветродуй». Стоять тут в непогоду было тяжело, но зато именно отсюда на значительное расстояние просматривались подступы по южному склону пограничного хребта к Большой зарубке, одной из немногих перевальных точек.
Начинаясь от «Ветродуя», ущелье постепенно расширялось, рассекало толщу хребта и через полкилометра, резко свернув к востоку, заканчивалось на северной его стороне второй площадкой, с топографической отметкой «3538». Обычно здесь происходила смена нарядов, охраняющих Большую зарубку, и заставские остряки окрестили эту вторую площадку «Здравствуй и прощай».
Высокая отвесная скала ограждала площадку от холодных северо-восточных ветров. С другой стороны ее ограничивала пропасть. Узенькая, словно вырубленная в скалах тропа круто спускалась от «Здравствуй и прощай», огибала пропасть и выходила на огромный ледник. За ледником тропа продолжала спускаться мимо скал, поросших кедрами-стланцами, к водопаду Изумрудный и неожиданно обрывалась у отвесной обледенелой стены. Именно тут снежная лавина разрушила мост — единственный путь в долину, к заставе Каменная.
На заставе не без оснований полагали, что, по всей вероятности, группа сержанта Потапова погибла если не от обвала, так с голоду: продуктов они взяли с собой всего на месяц, а минуло уже почти четыре.
Но Федор Потапов, Клим Кузнецов и Закир Османов были живы и продолжали охранять границу.
Как-то в один из январских дней на «Пятачке-ветродуе», укрывшись от пронизывающего ветра за рыжим замшелым камнем, стоял Клим Кузнецов. Засунув кисти рук поглубже в рукава полушубка и уткнув нос в воротник, он с тупым безразличием смотрел на уходящие одна за другой к горизонту горные цепи.
Прогрохотала лавина: где-то на каменном карнизе скопилось чересчур много снега. Орудийной канонадой прогремело эхо, замерло, и опять наступило гнетущее безмолвие.
Воротник полушубка так заиндевел, что пришлось вытащить из тепла руку и сбить колючий нарост из ледышек — и без того тяжело дышать. Нет, никогда не привыкнуть Климу к разреженному горному воздуху! Хочется вздохнуть полной грудью, а нельзя — обморозишь легкие… И до чего же мучительно, до боли сосет в желудке! Когда-то, бездну лет тому назад, Клим читал в приключенческих романах, что голодным людям мерещатся окорока, колбасы, яичницы из десятков яиц, что будто бы им чудятся запахи бульонов, отбивных котлет, наваристых борщей, а он, Клим, мечтал сейчас всего лишь о кусочке ржаного хлеба, самого обыкновенного черного хлеба…
Солнце скатилось куда-то за Большой хребет. Облака над чужими горами стали оранжевыми. Все вокруг было холодным, равнодушным.
Почему, почему он не ценил все то, что окружало его дома, в родном Ярославле, на Волге? Почему он не ценил заботу и ласку матери? (Отец погиб на войне, когда Клим был еще совсем маленьким.) Почему он часто не слушался ее, обижал, заставлял волноваться и тревожиться, ворчал, когда мать просила его сбегать за хлебом, — ему, видите ли, именно в это самое время нужно было готовить уроки! И мама шла за хлебом сама, хотя и без того устала, целую смену простояв на фабрике у станка…
Почему он, Клим, не ценил заботу школы, которую окончил весной прошлого года, и не стыдно ли ему было заявить товарищам, решившим пойти после десятого класса на завод, что они могут быть кем им угодно, хоть слесарями, хоть сапожниками, а его удел — искусство?
Искусство… Как позорно провалился он на вступительных экзаменах в художественный институт: по перспективе — двойка, по рисунку — три…
Не поэтому ли буквально в первые же дни пребывания на заставе обнаружилось, что он во многом не приспособлен к жизни? Он не умел пилить дрова — сворачивал пилу на сторону, чистил одну картофелину, когда другие успевали вычистить по пять, понятия не имел, как развести костер, чтобы он не дымил, и как сварить кашу, чтобы она не подгорела.
Читать дальше




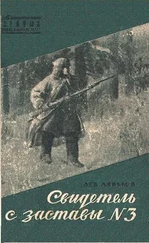





![Лев Линьков - Призвание [Рассказы и повесть о пограничниках]](/books/415685/lev-linkov-prizvanie-rasskazy-i-povest-o-pogran-thumb.webp)
