На улице вокруг конских яблок весело прыгали отощавшие за зиму воробьи, искристо и нежно синели сугробы, а в Шуркиной избе впервые за полгода звенел смех.
В субботу после обеда приехал Федя. Он подкатил прямо к интернату. И Мишка, помиравший от безделья, со всех ног кинулся ему навстречу.
— Ну, цуцики, собирайтесь, — сказал Федя.
Мишка собрал свою котомку и пошёл за Таёжкой.
— Как дела молодые? — спросил Федя, садясь за руль.
— Да так. — Мишка сделал рукой неопределённый жест. — Я, можно сказать, до конца недели гуляю.
— Что так?
— Освободили. Переутомился умственно.
— А-а, — сказал Федя. — Понимаю. А за что?
— Долго рассказывать.
— A у меня, брат, рассказ короткий. Свалял дурака, ушёл из шестого, а теперь локти кусаю. Думал: много ли грамоты надо, чтобы баранку крутить? А выходит — понадобится. Не через год, так через пять. Я вот в вечернюю подался. Как вы смотрите?
— Как, нормально смотрим, — сказал Мишка.
Федя вздохнул:
— Трудно. Как сделаешь до Озёрска три рейса, так в глазах прямо цветике кружева плывут. Ты это учти, Михаил…
На зимнике у берегов лёд вздулся и посинел. Видно, в Саянах начали таять снега, и река просыпалась.
Недалеко от деревни Федя остановил грузовик и выскочил из кабины. Вернулся он с пучком распустившейся вербы.
— Вот, — сказал он, улыбаясь, и протянул вербу Таёжке. — Держи!
Серые, с жёлтым цыплячьим пушком шарики щекотали лицо, и Таёжка жмурилась от удовольствия. Верба пахла снегом, талой водой и ещё чем-то особенным, что рождается в предвесенней тишине леса.
…К вечеру они добрались до зимовья. Василий Петрович ещё не вернулся из тайги. На столе, сколоченном из горбылей, лежала записка:
«Сварите что-нибудь поесть. Продукты в погребке. Я буду часов в семь. Отец».
— Наверное, с утра ушёл. Ишь как выстыло. — Мишка дохнул, изо рта у него вылетел парок. — Тащи еду, а я пока печку растоплю.
Таёжка вышла наружу. За бором садилось большое красное солнце, и бор стоял, весь облитый его сиянием. Вершины дальних гольцов проступали чётко и резко, будто нарисованные. Тишина кругом стояла такая, что слышно было, как с окрестных сосен, вздыхая, сползает снег.
«Заколдованный лес, — подумала Таёжка. — Вот-вот на тропу выйдет Снежный Король и скажет: «Загадывай желание, и я исполню его». А мне ничего не надо. Только чтобы скорее приехала мама».
По скользким ступенькам она спустилась к погребку и толкнула обледеневшую дверь.
«Не трогай… Сплю-ю», — прохрипела дверь.
— Я быстро, — сказала Таёжка виновато и, пугаясь, вошла в полутёмный погребок.
В корзине, выстланной соломой, она нашла двух куропаток. Куропатки промёрзли и стукались друг о друга, как деревянные.
В избушке уже топилась печь.
— Ощипывать будешь ты, ладно? — Таёжка подала Мишке куропаток. — Я боюсь.
Мишка буркнул что-то насчёт бабских нервов, взял куропаток, нож и вышел. Таёжка поставила на печку ведро со снегом и посыпала сверху солью, чтобы быстрее таяло.
Через полчаса стало тепло. От ведра поднимался вкусный мясной дух. Таёжка едва поспевала сглатывать слюнки. Печка раскалилась, по бокам её забегали тёмно-красные искры. Отблеск огня лежал на Мишкином лице, и оно тоже было красным.
— Ты сейчас как индеец, — сказала Таёжка. — Только волосы белые.
Мишка посмотрел на неё и фыркнул:
— А ты Золушка. Вон весь нос в саже.
На дворе заскрипели шаги, и в зимовье в клубах молочного пара вошли Василий Петрович и Семён Прокофьич Каринцев, директор леспромхоза. В избушке сразу стало тесно, запахло полушубками и табаком.
— Привет тебе, мой скит убогий! — сказал Василий Петрович, снимая патронташ и раздеваясь, — О-о, суп по-царски, с куропатками! А, Прокофьич?
Каринцев потянул воздух носом и зажмурился.
— Картошку, вермишель клали? — спросил Василий Петрович, подсаживаясь к огню.
— Всё в порядке, — сказал Мишка. — Только меня из школы выгнали. До понедельника.
— Весьма похвально. А с чего ты вдруг разоткровенничался?
— Как — с чего? Вы меня на воспитание возьмете. В тайгу. Я вот и ружьё прихватил.
— Нет, брат, зимняя тайга не для пацанов. Летом — другое дело. Всегда будем рады.
— До лета ещё семь раз помрёшь, — пробормотал Мишка.
— Ничего. Доживёшь как-нибудь.
Василий Петрович зачерпнул ложкой из ведра и объявил, что суп готов.
После ужина Семён Прокофьич, молчавший до сих пор, сказал:
— Приказ-то не отменили. Что делать станем, Петрович?
Читать дальше
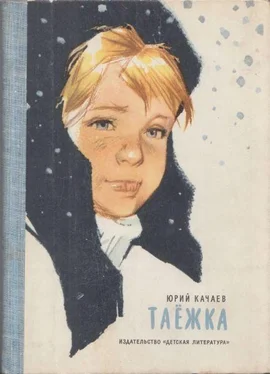






![Юрий Качаев - ...И гневается океан [Историческая повесть]](/books/403225/yurij-kachaev-i-gnevaetsya-okean-istoricheskaya-pov-thumb.webp)
