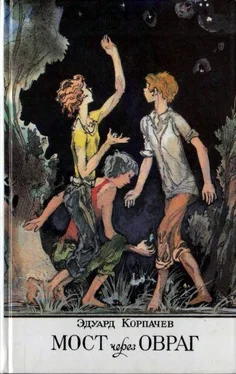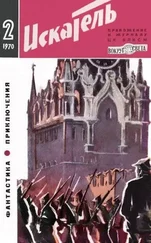И он сидел на бугорке, ел белую, гипсовую картошку и думал о справедливости, и, чем упорнее он думал о людях, о матери и о себе, тем яснее ему становилось, что обида, причинённая им своей матери, справедливее той обиды, которую он мог бы причинить не родным, посторонним людям. И ещё, глядя сейчас на далёкий коричнево-зелёный, как камыш, лес, на деревенские деревья, точно обмазанные сажей, на влажное, плачущее поле, он думал о земле и о том, что была бы жива земля, а деревья на ней вырастут и вырастут бревенчатые деревни.
Он сидел уже долго и сроднился с бугорком, стал как бы земляным изваянием, и на некоторое время позабыл о запахах, о шелестах, о зовах ветерка, а когда очнулся, то ему почудился запах соломки, и он, обернувшись, увидел совсем вблизи Тоню и догадался, что это её волосы пахли соломкой.
Он вовсе не удивился её приходу, потому что приютился на бугорке и был заметен каждому, он лишь нахмурился, памятуя о необходимости хмуриться при встрече с нею, а она так робко сказала:
— Если бы знала, Константин Иванович, то и не говорила бы про ошибки…
И он, сдерживая хмурую улыбку, взглянул снизу в её лицо, и если прежде, в школе, видел её со спины — словно бы с ангельскими крылышками, то теперь видел в лицо, и с лица она тоже была ангельски кротка, свежа, хотя и знала лишь одну плохую кормёжку.
— Какой я тебе Константин Иванович… Садись вот. И не гляди, что я хмурый. Мне вот перед мамкой никак не оправдаться… — И он стал рассказывать, как нелегко ему договориться с матерью, как нелегко, чтобы она всё поняла и приготовилась терпеть.
— А ты себе не в последнюю очередь хатку ставь, — попросила вдруг Тоня. — Лучше нам в последнюю, а вам в предпоследнюю…
— Тоже выдумаешь! Тебе надо учить детей, тебе на работу ходить. Ты должна жить… хорошо. А нам потом — ну, через год-другой…
Она благодарно взглянула большими, оленьими глазами на него, потом на этот весенний мир, такой широкий сверху, с бугра, и спросила с несмелостью младшей, вовсе не походя в эти минуты на учительницу:
— Костя, а вот через год-другой… вот какими мы сами будем через год-другой и потом?
— Не знаю, — пожал плечами Костя. — Наверное, такими же. Ну, прибавится каждому годов.
— Я не про то… — возразила Тоня.
— А-а, — догадался он, понимая, что вот сейчас, глядя с бугра на исчезнувшие деревни, видит она иные, из плотных брёвен деревни, и мечтает о них, прежних, какими они должны стать сызнова, и так хочет, чтобы поскорее выросли удобные для долговечной жизни деревни — с деревьями вдоль улицы, с незлобивыми людьми, с коровами, с отрадным духом земли. А уж там, в новых деревнях, и мы сами будем иными, совсем иными…
Но это через год-другой или через пять лет, а пока сидела Тоня в перешитом из маминого платьице, казавшемся длинным, в женском, тоже с чужого плеча, жакете и в залепленных землёй, как замазкой, ботиночках, один из которых перегнил у подошвы, просил каши щербатым зевом своим.
— Эх! — сказал Костя и тут же, склонившись, принялся расшнуровывать её ботиночек, затем сбросил со своей ноги бурок с красной резиновой холявой: — Надевай! От него, правда, воняет. А я сейчас…

Тоня, казалось, не слышала ни этих слов, ни противного сенного запаха от огромного бурка, зачарованно следила оленьими глазами, а Костя, осторожно сняв ушанку, уже вытаскивал из-за отворотов её гвоздики, и шило, и щипчики.
Какой прекрасный ботиночек покоился у него в руке — лёгкий, из нежной кожи, с тугим, как лобик, носком, с изящным рантом! И вот, вытаскивая ржавые гвозди, вгоняя новые, серебристые, Костя так хотел, чтобы этот драгоценный ботиночек теперь хотя бы чуть-чуть напомнил и Тоне, каким прекрасным он был когда-то…
А затем, когда каждый снова был в своей обуви, приближённый друг к дружке таинством обновления ботиночка, им уже можно было сидеть просто так и молчать, и молчание не казалось тягостным. И ещё долго сидели Антонина Ивановна и Константин Иванович и молчали, и опять начинали молчать, и были они счастливы, и лишь когда пристально вглядывались в деревья исчезнувших деревень, то вновь становились задумчивы, горемычны, как много пожившие люди.
Но вот они поднялись, потому что увидел Костя Бондарь вдали, на дороге, возвращающуюся из города повозку, и устремились вниз по скользкой, пышной от влаги земле, и Костю подгонял азарт: сейчас они в лес уйдут, будут с Чесиком стрелять, будут изумлённо озираться, откуда берётся многослойное эхо! Он лишь стеснялся, чтобы видела Тоня и знала, как он шалеет от пальбы, и отослал её в Горелово, а сам поспешил навстречу повозке, навстречу угрюмому волу, как бы залатанному чёрным по белому.
Читать дальше