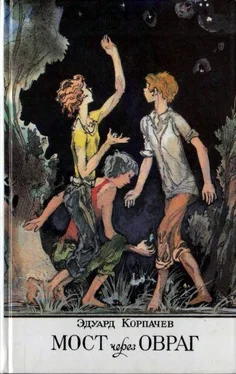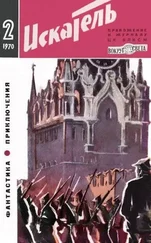— А разве я говорил когда, товарищ лейтенант? — только и спросил Казимир. — Разве я говорил?
— Но я же видел по тебе. Ты ещё мог что-нибудь такое подумать обо мне… И я подал рапорт. — И с этими словами Езовитов одёрнул гимнастёрку, весь подтянулся, стал ещё стройнее. — Теперь будем догонять нашу часть, — добавил он деловито, с беспредельной грустью посматривая на Светлану Никифоровну и даже, показалось, усилием воли подавляя вздох.
— А где наша часть, товарищ лейтенант? — ликующе вырвалось у Казимира.
— Под Берлином, — отрезал Езовитов.
И тогда Светлана Никифоровна, приблизившись почти вплотную к нему, Казимиру, и положив обе невесомых руки на его погоны, заглядывая бегающими от волнения и, наверное, незрячими сейчас глазами, возразила с болью, от которой и у Казимира всё заныло в груди:
— Да как же это, Казя? Да ведь там теперь самые бои!
Понимая её тревогу, понимая, отчего она с такой болью возразила, и становясь вновь её учеником, мальчиком, на которого она с улыбкой взглянула из коридора, когда он взбирался по железным скобам в небо, — становясь таким мальчиком, он с необыкновенной преданностью подумал о том, как всё-таки она была им всем дорога, милая Тыча.
Бритой щекой он потёрся о её руку и сказал:
— Ай лав ю, Светлана Никифоровна. Мы вас любили всем классом, ей-богу. Ай лав ю, Светлана Никифоровна!
Вот раньше были такие удобные для долговечной жизни деревни — с деревьями вдоль улицы, с незлобивыми людьми, с коровами, с отрадным духом земли, а теперь остались от деревень одни названия: Покровки, Блонь, Горелово. Теперь остались от сожжённых немцами деревень одни названия, и Покровки, Блонь, горелое Горелово уже как будто не деревни, а иные, странные поселения, потому что деревни строятся из дерева и стоят себе деревянные, а нынешние Покровки, Блонь, Горелово все ушли, зарылись в землю, стали земляночными. И ещё остались на прежних улицах и в прежних садах чёрные деревья, и сейчас Костя Бондарь, как и всегда, когда выбирался из своей землянки и шёл к единственной уцелевшей бревенчатой избе, глядя на антрацитовые тела деревьев, — сейчас он тешил себя надеждой, что в эту первую освобождённую от немцев весну деревья поднатужатся, сбросят с себя гибельный панцирь, и снова станут серыми их стволы, снова появятся лаковые листья.
А в единственной уцелевшей бревенчатой избе было правление, была школа, и жил в ней единственный на всю бригаду вол, который жил в ней лишь ночью, потому что поутру за ним убирали и на эту половину избы, где он жил ночью, сходились вылезшие из своих землянок дети, чтобы учиться, и для всех детей была единственною учительницей Костина сверстница, пятнадцатилетняя Тоня, которая ещё не привыкла, чтобы её звали Антониной Ивановной.
Вол уже стоял возле хаты в ярме — пёстрый, как бы залатанный чёрным по белому. На вола посматривали родственно собравшиеся бабы, а среди баб похаживал возница Чесик — весёлый, широкоплечий парень в кубанке с партизанской ленточкой, совсем взрослый парень, старше Кости на год, которого можно было бы выбрать бригадиром, да вот не выбрали, потому что он уже был ненадёжен.
— Константин Иванович! — лениво окликнул его весёлый Чесик. — А тут женщины спорят, кому первой будем лес рубить на хату?
И Костя, сразу увидев гурт баб и среди них свою мать с заплаканными глазами, подумал, что в нынешнюю весну люди с жадностью ждут не сева, а отстройки своих хат, что вот собрались они с пилами и топорами и готовы ехать в лес, что сразу, в одну весну, не удастся построить для всех из нежных отёсанных брёвен хаты и что будут обиды, будут слёзы и мольбы, и вот уже обидел он первого человека — свою мать, которой сказал, что себе поставит хату в горелом Горелове в последнюю очередь. И ещё он вспомнил, как утром разбудили его и попросили вола, чтобы отвезти в город Куприянову Марию, и он сказал теперь, глядя на Чесика блёклыми, фиалковыми глазами:
— Завезёшь Куприянову Марию.
— Ладно, — развязно произнёс Чесик, точно разочарованный тем, что ехать ему в город, а не в лес, где бабы будут ходить и выбирать себе на хаты деревья, где винно пахнет прелыми листьями и напоминает вино берёзовый сок, где так стеклянны, хрупки голоса и где пробуждается в теле молодая сила и страсть.
— А про это молчи, как вол, — отрезал Костя и достал из кармана свой блокнотик, сшитый из разной — в клеточку, в косую линейку и просто в линейку — бумаги, вырвал листок и написал на нём: «Товарищ доктор прошу положить в больницу. Остаюсь ваш бригадир К. Бондарь!» И прежде чем отдать Чесику записку, стал перечитывать её, боясь ошибок и вспоминая, как одну из таких записок прочла Тоня и с улыбкой заметила, что написана она не всюду грамотно и что надо ему учиться, а он раздражённо бросил, что это не её дело, что у него другие дела и заботы и что у него по горло этих дел и забот — понятно? И, разобидясь тогда, он стал избегать Тони, стал хмуриться при встрече, хотя всегда приближался к единственной уцелевшей бревенчатой избе в смутном, приятном волнении, лишавшем сил, путавшем ему ноги, как и теперь, когда он стоял на виду у баб и думал о том, как шагнёт в избу и у двери постоит и послушает Тонин голос, и журчание её голоса разбудит его, точно ручей.
Читать дальше