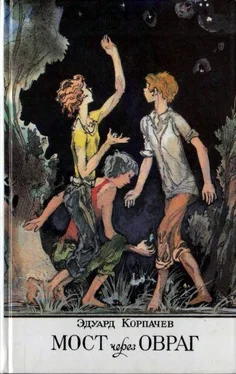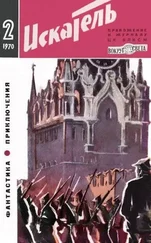И хоть они с Усовичем уже далеко были от единственной уцелевшей, бревенчатой избы, Костя всё же ощутил на себе взгляд издалека, обернулся и увидел возле избы стоящую на ветерке и как бы оклеенную платьем Тоню, Антонину Ивановну. Затем нагнал Усовича и, всё ещё волнуемый тем взглядом издалека, с любовью посмотрел на председателя, как он идёт, оскользаясь, покидая какие-то долгие, лыжные следы, как он охотно дышит таким полезным для него весенним воздухом. На фронте Усович не был ни ранен, ни контужен, его направили в родные края по болезни, у него чахотка была, которую здесь называли сухоткой, и правильно называли, потому что хвороба сушила Усовича, превращала его в мальчика.
На пригорке Усович остановился перевести дыхание, дышал он с хрипами, точно воздух задевал у него внутри о какие-то шероховатости, и когда Костя, оглядевшись, обнаружил, что стоят они теперь на самом высоком месте, откуда хорошо видать и Покровки, и Блонь, и Горелово, если представить их бревенчатыми, какими они были раньше, до сожжения, то вновь подумал об отстройке деревень и сказал о том, что беспокоило его всё последнее время:
— Ну вот как быть справедливым? Как не обидеть никого? А? Или можно одно горе назвать меньшим, а другое — тяжелейшим? Можно это горе взвесить на безмене?
— И всё же надо уметь быть справедливым. Вот как сегодня. Послал вола в город — и справедливо.
— Сегодня — другое… Сегодня как день ясно.
Усович ничего не ответил, сколупнул землю рукою, отвернулся, затем подступил к Косте и, серой ладонью вылепливая из земли игрушечное подобие земного шара, сказал откровенно:
— Тебе жить, Константин Иванович. Ты, может, председателем ещё будешь. А мы сегодня живы, а завтра — тама. — И Усович притопнул ногою, как бы указывая путь в землю. — И думай о людях всегда вот так, как сейчас, — по справедливости…
Хоть равными они были, мужчинами они были, но никогда не говорили с такой обнажённостью души, и хорошо, что потаенный разговор никто не слышал, а только немое поле. И было совестно Косте Бондарю внимать этим словам и было совестно другому мужчине говорить их, и потому этот другой мужчина оборвал себя и пошёл обратно с поля, размахивая рукою с грязными, чёрными от земли пальцами и временами не находя твёрдого грунта под ногами и скользя, как на лыжах.
Выбрав сухой, уже зачерствевший бугорок, Костя сел и стал следить за Усовичем, как он отдаляется, скользит по голой земле, затем ещё раз обвёл взглядом расступившийся окоём, и было невыносимо трудно смотреть на деревни, которых нет на земле, и Костя понял, что не сможет он сидеть долго и глядеть издалека на исчезнувшие деревни, и потому поднялся и побрёл по фантастически крупным, смазанным следам.
А жить было не так уж плохо, жизнь Костина ещё только начиналась, и он думал, что как-нибудь со временем построятся хаты в Горелове, построится школа, и будет в той школе настоящей, полноправной учительницей Тоня, Антонина Ивановна. И Костя робел и чувствовал сладкий холодок в груди, пытаясь угадать будущую, взрослую жизнь и мучаясь в неведении своём.
Без вола убавлялось у него бригадирских забот, не надо было ехать в облезлый, очнувшийся от зимы лес, и Костя, прошагав улицей мимо деревьев цвета хлебной корки, спустился в землянку — сначала тень его спустилась, потом он сам — и, чтобы не встречаться с заплаканными глазами матери, сел за стол и стал брать остывшую известковую картошку и макать в соль.
— Ну Костик, — осторожно попросила мать, — ты делай себе — как людям. Людям хаты ставить — и себе… Чтоб не зимовать нам в этой берлоге…
— Не знаю, мамка, — ответил он, тут же увидев мысленно гневные, корящие глаза баб, — не знаю, мамка.
— А господи, — заголосила вдруг мать, закрывая плоскими ладонями лицо, — и зачем нам такое лихо? Господи!..
И тогда Костя, чувствуя, как дрогнул у него подбородок, сунул картошку в карман куртки и вылез из землянки, а ветер коснулся его лица, и эта ласка весны успокаивала Костю, пока он шёл мимо крашенных пожаром деревьев и дальше, мимо единственной уцелевшей избы, и ещё дальше, по дороге, и опять в поле.
Нет, слишком сложна была для него эта тревожная жизнь или он делал что-то не так, если родную мать ранил упрямыми, чёрствыми словами, и Костя шагал по клейкой, как вакса, земле подавленный и растерянный, и его опять тянуло на тот бугорок, где он сидел давеча и где с высоты, казалось ему, сейчас откроется что-то новое, он поймёт, успокоится и сделается для людей справедливым и мудрым.
Читать дальше