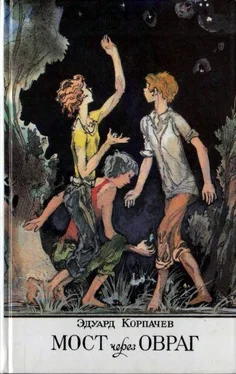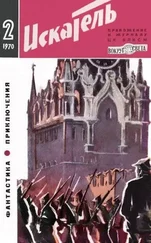Когда увидел Витя на заиндевевшем выгоне стадо смирных, вовсе не одичавших коров, он впервые, пускай и сомневаясь, подумал вдруг, что это чужие, не здешние коровы, потому что свои коровы уже давно, ещё раньше людей, пришли бы к распахнутым воротам знакомых дворов. И всё же это была пока мимолётная мысль, он прибавил ходу, задышал трудно и часто, глотая жадно морозящий воздух осени. Сердце у него ёкнуло и облилось внутренним каким-то теплом, как всегда бывало с ним раньше, давно, до войны, когда он выбегал за деревню встречать Рогулю и подгонял её, сытую, переполненную молоком и оттого даже пахнувшую сыродоем, к дому, подгонял прутиком вербы или зонтом лопуха, хотя Рогуля и без того, покачивая выменем, трусцой возвращалась к дому, как ни мешало ей бремя еды и молока. И было сейчас лихорадочное предчувствие встречи с нею, кормилицей Рогулей, сплошь чёрной, совсем вороной масти, потому и бежал он безостановочно, с раскинутыми для равновесия руками, оскользаясь на седой траве и оставляя изумрудно-яркие следы.
И те, кто не поспевал за ним, уже звали издалека, уже просили, молили, уговаривали смиренных этих коров:
— Красуля, Лысуха, Чёрная, Донька, Рябая!
И хотя звали, окликали их бабы так проникновенно, так по-родному, так ласково, коровы стояли на заиндевевшем выгоне и не устремлялись на голоса, даже не взмыкивали, как будто онемели, и вот уже бабы, настигшие стадо и разбредшиеся искать своих кормилиц, вновь перекликаться стали, тревожно, как и в первые тихие минуты, едва ступили из леса в деревню:
— Красуля, Лысуха, Чёрная, Донька, Рябая!
Витя, растерявшись, тоже плутал меж снующих, не то играющих в печальную и странную игру, не то помешавшихся женщин, и тоже звал, но не отвечала мычанием Рогуля, не было в стаде чёрной коровы, сплошь вороной коровы. Он ещё и не понял, да и никак не мог допустить, что это чужие, не здешние коровы. Он всё плутал, босоногий, в свитке и картузе с мятым, протёршимся и обнаружившим картон козырьком. Всё звал, коченеющий, свою Рогулю, вороную Рогулю, а бабы уже брали за рога смиренных безмолвствующих коров и гнали их к деревне, и таким странным показалось Вите, что теперь они не произносили с надрывом, с сердечной болью их кличек, просто гнали к деревне и помалкивали.
Особенно же поразило его, что старый Апанас Дёжка размотал связку пеньковой верёвки, концы её ловко привязал за рога сразу двух коров и повлёк за собою пару скотин. Витя даже воспрепятствовать этому захотел, крикнуть, что он берёт чужих коров, или преградить путь старому Апанасу, но ведь никто из женщин не препятствовал Апанасу, никто не перенимал у него чужих коров, и может быть, это не чужие коровы, не свои и не чужие, а так, ничьи.
Всё-таки он ещё побродил по выгону, ещё более теряясь, побродил, покликал жалобно, вполголоса Рогулю, пока не остался совсем один на этом седом выгоне, побитом, как зелёными оспинами, копытами гонимых к деревне и так легко приручённых коров. Ещё оставались здесь от стада две или три малорослых, как тёлки, коровы, но ведь не была ни одна из них Рогулей, вороной Рогулей, и Витя, опять ощутив, до чего холодна земля, до чего жгуч октябрьский иней, опять поджимая то одну, то другую ногу к загрубевшей от сырости и свежести штанине, поковылял к деревне.
Ворота двора всё ещё были распахнутыми, а у ворот поджидали Рогулю мать с напряжённой, склонённой на один бок шеей и младший Федя, уже обутый в бурки, и когда Витя сознался, что не нашлось Рогули в стаде, не нашлось, как ни искал он, мать взглянула на него странно, с благодарностью.
Очень странен был Вите этот благодарный взгляд матери, когда надо было ей причитать или гневаться, но уже в хате он понял причину её удивительной благодарности, уже в тёплой, хотя и нетопленой хате понял всё он, едва жёсткими руками привлекла его мать к себе, к своему ватнику, столько раз облизанному Рогулей и потому всё ещё пахнущему Рогулей, её млечным выменем, её перегаром трав.
— А Витечка мой, ты такой справедливый, ты ничего чужого не возьмёшь, — с позабытой ими всеми радостью заговорила мать, не умея наклониться, повернуть шею и потому как бы глядя вверх, на божницу. — А може, то были чужие коровки… тех людей, которых спалили… А може, коровкам нема куды податься, коровок спасти надо? И люди так и подумали да забрали коровок…
Да, теперь и Витя понимал, что на выгоне было стадо чужих, не здешних кормилиц и что мать, которая стояла у распахнутых ворот и знала здешних кормилиц так же хорошо, как и своих соседей, поняла это всё раньше него!
Читать дальше