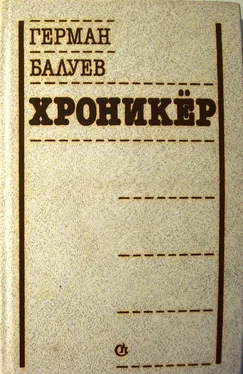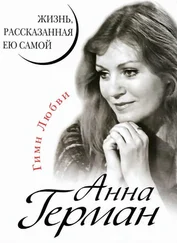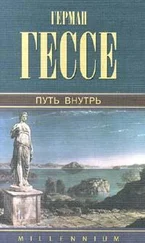— Не знаю, — шепотом сказал псих.
— Не знаешь... — Пожарник положил ладонь на плечо потешным образом одетого психа: вельветовая курточка, смешные штаны — короткие, застегнутые под коленками на перламутровые пуговицы, а ниже — бабьи, что ли, чулки. — У тебя всех немцы поубивали, — сказал Пожарник с какой-то даже угрозой в голосе, — а ты сам вырядился как фриц. — Он вновь с сомнением оглядел наряд психа. — Ты, Лешка, так не ходи!
Пожарник помедлил, прикинул и повел приблудного за собой. Они вышли на прямую, широкую, мощно устремляющуюся к забитой судами реке улицу — Заводскую, обставленную с обеих сторон черными, громоздкими, как барки, домами. За каждым из этих громадных, как показалось Лешке, сложенных из черных бревен, длинных домов, за лысинами убитых сапогами дворов лепилось скопище частных сарайчиков. Сарайчики были сделаны из всякого хламья, разновелики по высоте, и Пожарник и Лешка, то залезая, то спрыгивая, шли по их крышам, как по клавишам разбитого рояля. В затишке, на крыше, притопленной между двух высоких сараев, сидела, что-то выжидая, хевра. Тут были поселковые — со скуластыми недобрыми лицами, и двое таких же, как Лешка, эвакуированных: пацаны с остановившимися и как бы залитыми известкой глазами, малоподвижные, как старички.
— Фрайер. — Оглядев Лешку, определил главный: худой, как старая лошадь, мосластый. Он был старше и костлявей других. Уже по одному тому, как он вальяжно лежал своими костями на выветренных трухлявых досках, было видно, что он тут главный. — Иди сюда, фрайер. — Он схватил подошедшего и опустившегося на корточки мальчика костяшками согнутых пальцев за нос. — Что скажешь, фрайер? — От боли у Лешки брызнули слезы. — Ничего не хочет говорить?! — удивился мучитель. — Ну, тогда отдыхай. — Он отпустил Лешкин нос, ловко вытер пальцы о его курточку и толкнул в лоб ладонью, так что Лешка неожиданно сел на доски.
— Чего ты его сразу-то?! — сурово насупился Пожарник.
Куруля (так, выяснилось, звали мосластого) своей босой ногой, которая выгнулась, как резиновая, подцепил Пожарника за пиджак, подволок к краю крыши и ловким ударом той же ноги сбросил вниз. Поделился с Лешкой:
— Такой артист!
Вдруг компания насторожилась. Лешка посмотрел туда же, куда смотрели все остальные, на крышу громоздящегося против сараев бревенчатого темного двухэтажного дома, и увидел, как из слухового окна выскользнул шкет в рванине, сквозь которую во многих местах просверкивало его тело, сполз к краю, повис, ухватившись за водосточный желоб, жутко раскачиваясь и рея лохмотьями, сорвался, серым комом полетел вниз и вдруг остановился, будто влип в стену, возле которой летел, ухватился за какие-то скобы и по ним соскользнул вниз. Не прошло и минуты, как он явился, влез с тыла на крышу сарая, раскрыл свою рванину, и хевра одобрительно оскалилась: к голому серому телу мальца был привязан бечевкой целый куст сушеного самосада. Нарубили ножом, закурили, давая затянуться тем, кто еще не пробовал.
— Откуда драпал? — раскинувшись на шершавых, как наждак, серых досках, буднично спросил Куруля.
Лешка, болезненно скривившись, прошептал, что из Одессы. Выдавил слово за словом, как сидел в воронке и как стало душить дымом, валящим с горящего эшелона, вылез, а кругом ползали и кричали раненые, и он тоже кричал, звал маму и Алю, но их не было, и вдруг все, кто мог, побежали, а когда он опомнился, то уже не знал, в какую сторону возвращаться, и тут полыхнуло, он снова оказался в воронке, только в другой, и лицо в лицо перед ним сидела Аля. Она так вцепилась в него, что он испугался: казалось, она уже не разомкнется от потрясшей все ее тельце судороги.
— В тени, по-над леском надо было бежать! — сплюнул Куруля, когда Лешка рассказал, как хотели его повесить и как бежали они с женщиной-счетоводом и ее сыном по желтому, озаренному луной полю. И Крыса (тот, что своровал табак: острой мордочкой и черными бусинками глаз и в самом деле похожий на крысу) приготовился пакостно захохотать, но Куруля неторопливым движением сгреб его мелкое личико в горсть, подержал, а затем вытер измазанную Крысиными слюнями ладонь о его же рванье. А маленький суровый Пожарник обнял беглеца за плечи, сунул ему в рот свою обмусоленную цигарку, сказал по-отцовски:
— Давай-ка, покури!
Лешку вдруг затрясло. Будто растопило его лед, и только сейчас, с большим запозданием, он почувствовал, что действительно дошел до своих. Скуластая хевра, покуривая, смотрела, как его колотит. Его словно закупорило, а потом взорвало слезами и словами. Захлебываясь, он кричал, что все гады, гады, гады! Не пустили его к Але. А сначала она лежала на полу воняющего хлоркой и сквозняками железнодорожного вокзала и запекшимися губами просила пить. А кружки не было. Кружка была только на станционном бачке, и он кружил вокруг нее, как ворон, но так и не нашел в себе силы, так и не смог превозмочь себя и эту кружку украсть. А потом, когда он в поисках воды убежал за пути, Алю унесли санитары, и он еще двое суток просидел возле инфекционного барака, ночуя в навозе, у коновязи, а потом ему сказали: «Ты бы шел себе, мальчик!», ему сказали, что сестры у него больше нет.
Читать дальше