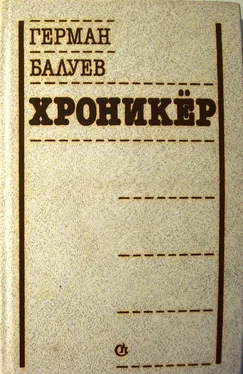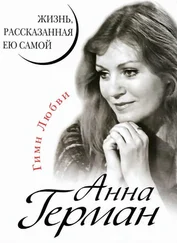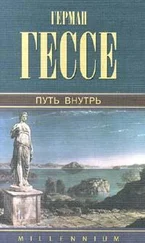Снова выдвинувшись из-за угла вагончика, за спиной Французова встал и стоял каменной бабой Иван. Терпеливо дождавшись завершения Диминой исповеди, он бросил:
— Иди заступай!
Дима, поднявшись, как кошка, бесшумно ушел. Иван еще помедлил, а потом с кряхтением опустился на табуретку:
— Ночную рыбалку для тебя приготовил. — Он помолчал, затем взглянул из-под белых бровей, — Поедем?
— Поедем.
Иван покряхтел, уперев полусогнутые толстые руки в колени.
— Ну и ладно! — Он длительно посмотрел в землю, потом вскинул медвежьи глазки. — Ты смелый? Или ты глупый?
— Рыбалки я еще никогда не боялся.
— Глупый! — вздохнул Иван. — А может, как раз и ничего, что ты остался, — сказал он, осваивая новую мысль.
Я понял, о чем он.
— Мне-то какое до всего этого дело?!
— Вот и я думаю о том же, — сказал Иван. — Какое тебе до всего этого дело?!
Возможности мои быстро сужались. «Мой» самолет, починившись, неожиданно и неизвестно куда улетел. Машину не предлагали. Уборщица как-то скользко сказала, что на мою койку уже летит претендент.
В конце дня мне удалось устроиться на бензовоз. Он возвращался на нефтебазу мимо поселка Уча.
Но до чего же к этой поездке у меня не лежала душа. Зачем? И тем более на ночь глядя! Как и чем я оттуда вернусь?.. Но даже не в этом дело! Ни к чему мне было в эту историю лезть. Тем более что и выглядела она как-то сомнительно. Я кожей чувствовал: лучше бы ее обойти. Но если человек выкладывает тебе свою историю, то он делает это совсем не за тем, чтобы ты вместе с ним повздыхал или посмеялся. Даже не задавая вопроса, он оставляет тебе свой вопрос. Самим фактом исповеди он признается в своем бессилии и перекладывает ответственность на тебя. И пусть ты не обязан, но если ты не хочешь внутри себя разладиться, тебе эту историю не обойти.
Вчера я уже был в поселке Уча, все оказалось, как говорил Французов: улица партизана Медведкина, 24, беленый дом, хозяйка Клавдия Григорьевна, действительно, суровая на вид, властная, с недоверчивым взглядом, еще не старая женщина. Ни слова не говоря, не отвечая на мое «здравствуйте», она настороженно села напротив меня, и лицо ее явственно выражало: «Говори, говори, милый. А мы посмотрим, что ты за гусь». Губы ее были сурово и скорбно замкнуты, натруженные руки тяжело лежали на коленях. Стан ее был прям, и в самом ее существе ощущалась негнущаяся прямота. «Значит, и ты за деньгами?» — себе самой сказала она, хотя я толковал о следователе, который по ее наущению допрашивал Диму Французова, и даже не упомянул о деньгах. Не меняя тяжелого выражения лица, она встала и вышла. Я посидел, разглядывая комод, ходики, фотографии в рамках, с подушечками и накидочками диванчик, какую-то уж слишком высокую, узкую, пышную, покрытую светлым покрывалом кровать. Время шло, было тихо, и я вдруг всеми нервами ощутил, что я в чужом доме один. Сразу невыносим стал чужой жилой запах. Я быстро вышел на улицу, остановился перед домом и закурил. И тут вывернула орсовская, приезжавшая за рыбой и прихватившая меня в эту поездку машина: «Алексей Владимирович, все? Айда поехали! Садись!» Я кожей чувствовал, что выскользнул из чреватой последствиями ситуации. Но выскользнуть-то я выскользнул — да вот приходится возвращаться. Приходится возвращаться, но уже без машины, без попутчиков, без страховки, надеясь исключительно на универсальный русский «авось».
Коли уж я влез в это дело, я обязан был до конца разобраться. Только поняв мотивы воинственного поведения старухи, я через следователя мог добраться до Сашко, одним мановением разрушившего карьеру Димы Французова. Главное, что мне было нужно сегодня, — это чтобы старуха от меня не убегала. А уж я-то ее «раскручу». Конечно, немного сосало под ложечкой. Уж больно неважная репутация была у поселка и уж больно тверда была в своей неприязни ко мне старуха. Но бояться не позволял сам жанр, в котором я работал. И в конце-то концов убирать меня вроде бы нет резона. А все остальное для меня годится. Чем больнее мои личные, так сказать, потери, тем богаче потом становится материал. Я уж чувствовал, как бродят дрожжи моей будущей все разрастающейся и крепнущей хроники. Сама горячая кровь жизни постепенно наполняла ее капилляры. И хотя в некоторых эпизодах я выступил как закваска, в этом не было злой преднамеренности. Вся особенность моего поведения заключалась в том, что я испытывал ситуацию нормальной открытостью, нормальной смелостью и нормальной принципиальностью. Как правило, этого было достаточно, чтобы самые тихие и невнятные ситуации раскалялись и становились резки.
Читать дальше